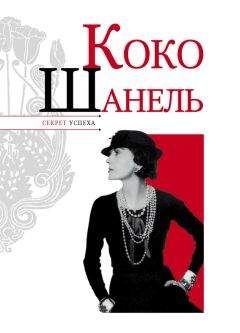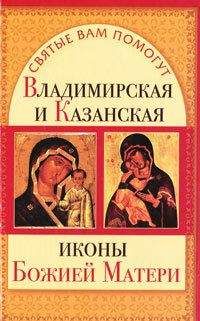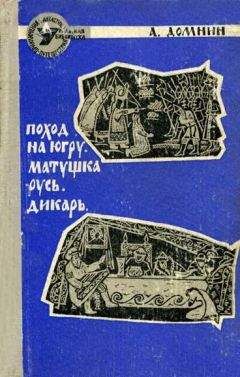Ана Матуте - Первые воспоминания. Рассказы
В первое лето я играла с Борхой. Меня сразу сочли дикой и неотесанной, как деревенские, и посулили перевоспитать. Через полтора года, когда мне только исполнилось четырнадцать, меня с большим шумом, хотя и не без смущения, выгнали из интерната.
У бабушки меня встретили холодно и тоже обещали укротить. А Борха наконец, если не полюбил, то хотя бы втайне восхищался мной и поверял мне секреты.
Посреди лета началась война. Тетя Эмилия и Борха не могли вернуться в Испанию, а дядя Альваро — он был полковник — отправился на фронт. Мы с Борхой внезапно оказались в ловушке и поняли, что нам тут сидеть неизвестно сколько. Школы наши были далеко; в воздухе носилось что-то возбуждающее и меняло, расшатывало унылую жизнь — бабушки, тети, священника, доктора. Нарушился мерный распорядок, сдвинулись стародавние обычаи. В любое время дня могли прийти гости. Антония то и дело приносила новости. Старое, хриплое радио, внушавшее бабушке презрение, стало волшебным оракулом, соединявшим, словно заговорщиков, тех, кто раньше так церемонно общался друг с другом. Бабушка почти прижималась к нему своей большой головой, и если вожделенный голос исчезал, яростно трясла приемник, словно это могло помочь. Наверное, потому и потеплели наши отношения с Борхой.
Тишина, покой и долгое ожидание, в которое все погрузились, действовали и на нас, детей. Мы то скучали, то тревожились, словно что-то подстерегало нас и могло выскочить в любую минуту. Я постепенно узнавала большой и странный дом — желтый, с черепичной кровлей, с верандой под деревянным навесом, огороженной каменной балюстрадой; на этой веранде мы с Борхой часто лежали ничком и тихо вели долгие беседы. (Наверное, в доме жутковато отдавались наши голоса, пронесенные сквозь балки и щели какими-то маленькими тварями.) Мы притворялись, что играем в шахматы — старые, дедушкины, слоновой кости. Иногда для виду Борха кричал: «Au roi!»[2] (бабушка и тетя хотели, чтобы мы говорили чаще по-французски, хотя произношение у нас было самое немыслимое). Бабушка на веранду не ходила, она глядела из окна, и только тут можно было укрыться во всем этом невеселом доме, сотрясаемом тяжелыми шагами хозяйки, вечно вынюхивающей, как борзая, не сбежали ли мы в селение, в бухту, на откос, в кафе… Чтобы никто не услышал наших шагов, мы разувались. Но бабушка видела полузакрытыми глазами, как скользят через комнату наши длинные тени. Трость падала, табак высыпался на грудь, и раздавался крик:
— Борха!
Хитрый Борха быстро обувался, согнув ногу, словно аист (я и сейчас вижу, как он криво улыбается, закусывая губу, яркую, словно у женщины. Да, он бывал иногда похож на женщину, а не на мальчика, у которого в пятнадцать лет уже пробивались усы).
— Увидела, гадюка…
(Когда мы оставались одни, мы старались друг перед другом ругаться похлестче.)
Борха медленно удалялся, с невинным видом, а бабушка, постукивая тростью по креслам, гневно сверкая белой прядью и пыхтя, как носорог в воде, подходила ко мне и спрашивала:
— Куда это вы без Лауро?
— К откосу, на минуточку…
(Сейчас я смотрю на зеленый бокал, и сердце у меня ноет. Неужели жизнь начинается с этого? Неужели детьми мы проживаем все, нам отпущенное, — выпиваем все залпом, а потом повторяем, повторяем, без цели и без смысла?)
Борха не любил меня, но не мог без меня обойтись и держал при себе, как Лауро, сына бабушкиной ключницы. Ключница Антония была бабушке ровесницей и прислуживала ей с детства. Бабушка выдала ее замуж за кого ей вздумалось; когда же она осталась вдовой, с маленьким Лауро на руках, снова милостиво взяла ее в дом, а ребенка определила в монастырь, где он был послушником и пел в хоре, а потом — в семинарию. (Лауро-Китаец, Лауро-Китаец. Он говорил иногда: «Старый остров, проклятый остров. Остров купцов и торгашей, шутов и кровопийц. Жадные дельцы! В домах, в оградах, в стенах — всюду золото». А я представляла себе, как золото сокровищ смешалось с блестящими костями, там, под землей, куда уходят корни. Я представляла, как под плитами монастыря, где кишат черви, сверкают монеты, словно горячие уголья.) По вечерам мы часто сидели на откосе. Лауро говорил, его непонятные слова соединяли нас троих, и, слушая его тихий голос, я закрывала глаза. Быть может, только тогда нам бывало с ним хорошо. Ночные бабочки парили в темноте светлыми корабликами, вроде тех, что проплывали над русалочкой и нагоняли на нее печаль. (Бамбуковые мачты, паруса алого шелка и загадочный юноша с черными глазами, который не мог дать ей душу.) Вдруг Лауро умолкал и касался платком лба. Кажется, он потому и рассказывал нам о торгашах, что лишь эти вспышки гнева резрешались ему, подобострастному слуге.
— Ну, дальше, — нетерпеливо понукал Борха. Лауро протирал зеленоватые очки, и мы видели его раскосые глаза с тяжелыми, полуприкрытыми веками.
— Я устал, сеньорито Борха… Голос от сырости садится… и потом, я…
— Говори! — Борха упирался рукой ему в грудь, словно хотел толкнуть его, и Китаец видел его пальцы, похожие на пять кинжалов.
— Отпустите меня, я хочу спать… Худо мне, отпустите… Что вы в этом смыслите? Что вы потеряли? Ничего вы не теряли, никогда!
Борха смеялся, словно мы не понимали его слов. (А я думала: «Потеряла? Не знаю. Знаю только, что не нашла ничего». И мне казалось, что кто-то, когда-то предал меня.) Мы плохо обращались с ним. «Китаец», «Мистер Китаеза»… Мы звали его Переподавателем, желтым Иудой, любым дурацким прозвищем, какое приходило нам в голову, когда мы сидели под вишней или под смоковницей, на которую упрямо садился белый петух из поместья Сон Махор. (Почему я помню петуха? Он был крепкий, смелый, и глаза у него гневно сверкали на солнце. Он являлся к нам из Сон Махора и взлетал на нашу смоковницу.)
Лауро много лет пробыл в семинарии, но священником так и не стал. Бабушка, которая платила за него, была очень недовольна, но тут же взяла его к нам в наставники. Глядя на него, я думала, не случилось ли с ним в семинарии чего-нибудь вроде того, что случилось со мной в интернате.
— Монах недоделанный, — говорили мы. Я честно подражала Борхе.
Недоделанный монах с печальными, раскосыми глазами, желтевшими сквозь зеленое стекло, и жиденькой, шелковистой, черной бородкой. Китаец.
— Ради Христа, ради бога, не зовите меня так при бабушке! Ведите себя пристойно, пожалуйста. А то она меня выгонит.
Китаец глядел на Борху, губы у него дрожали, и были видны редкие, неровные зубы.
Борха, молча смеясь, строгал палочку — нож он отнял у Гьема. Палочка становилась зеленой, пахучей и влажной, а стружки падали на землю и на голову Китайцу. Борха подносил к уху ладонь.
— Как, как? Не слышу. Погляди-ка мне в ухо, что-то жужжит… Может, пчела…
Широкие скулы Китайца розовели. «Только не при бабушке!..» (Но перед бабушкой Борха и сам был примерным. Борха целовал руки и ей и тете. Борха крестился и по-монашески перебирал четки смугло-золотыми пальцами. Да, в сандалиях на босу ногу он был похож на монашка.)
— Тайна страстей господних… — говорил он.
(Борха, шут и притвора… А все же — как невинны были мы тогда!)
Я помню горячий ветер, небо, вздувшееся серым нарывом, чуть зеленеющие смоковницы и землю, катившуюся сверху, с гор, где в дубовых и буковых лесах жили угольщики, в долину, в деревню, позади нашего дома, к морю. Помню медную землю откоса, перегороженную каменными стенами, которые белели, словно огромные челюсти, одна над другой, до самой пены прибоя.
Ветер стихал сразу, и Борха — он сидел в классной комнате со мной и с Лауро — поднимал голову, слушал, словно надеялся услышать что-то важное и таинственное. (Над нами, в кабинете, бабушка разрывала когтями новую пачку газет. Пальцы ее, унизанные бриллиантами, алчно дрожали, — бабушка искала в газетах хоть что-нибудь о зверствах «красной гидры». Она хотела увидеть фото благородных иереев, сваленных в канаву.)
Помню, было часов пять, и ветер уже улегся. Профиль Борхи казался острым, как лезвие ножа. Борха поднимал верхнюю губу странно, по-своему, и длинные, ярко-белые клыки придавали ему свирепый вид.
— Заткнись, — сказал он Китайцу.
Тот осекся на середине Цицероновой речи, растерянно заморгал и пролепетал умоляющим голосом:
— Борха…
Он не договорил, глядя поверх очков мутно-желтыми глазами, и я, в который раз, удивилась, почему он так боится пятнадцатилетнего сопляка. Я тоже его боялась. Иногда, по ночам, я просыпалась от жажды, зажигала в полусне ночную лампу, искала стакан под крахмальной салфеткой (Антония ставила их во всех спальнях) и, погружая губы в прохладную воду, вспоминала свой сон: Борха тащит меня на цепи, как жалкого паяца. Я боюсь, хочу закричать — как тогда, в детстве, в деревне, — а он все тащит и тащит. (Почему я боялась его? Ведь я ничего дурного не сделала, ему нечем было меня пугать.)