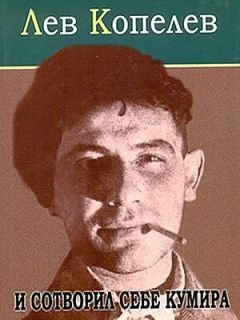Новый Мир Новый Мир - Новый Мир ( № 6 2010)
Мне не нужно красоты, красота — первый шаг к забвению. Они такими сейчас и смотрели на меня, какими я их помню. Мама в темном платье с отложным белым воротничком — представления умненькой провинциальной школьницы о красоте и приличиях. И взгляд ужасно “комсомольский”. Папа же в белом свитере с расстегнутой молнией, вшитой мамиными руками в воротник, распадающийся на две маленькие волны, напоминающие рудиментарные крылышки. И выражение лица такое же — окрыленное.
Они спокойны и уверены в правильности избранного пути — я скомкан и отброшен от всего, что могло бы хоть как-то укрепить мой дух. Тлен, тлен…
Мне кажется, я ничего не произносил вслух, но мамино лицо приближалось, приближалось, и сквозь комсомольское выражение беззаветной преданности все более явственно проступала мука. Внезапно я похолодел: по маминой щеке сползала слезинка.
Захлопнув рот, я одичало вперился в выпуклое фото — да, это несомненно была капля. Трясущейся рукой я стер ее и лизнул — она была соленая. Рука вспотела, метнулась в голове, а это дождь, сейчас закапает. Однако в небе не было ни тучки, одна бледная наволочь. И я почувствовал, как мое лицо охватывает жар стыда: надо же, довел мать до слез!.. Прости, мамочка, прости, милая, лихорадочно забормотал я, помнишь, ты говорила: не знаю, чего вам еще надо, мы мечтали, только забудьте про нас, и мы будем на вас работать день и ночь, а мы вот разучились ценить жизнь, нам еще надо какого-то рожна, которого нет и быть не может, одним словом, зажрались, а так-то все у нас лучше некуда, все сыты, здоровы…
Я захлебывался от нежности и жалости, и мамино лицо понемногу вновь обрело прежнее выражение беззаветной преданности. И тогда я пал на колени и, неловко дотянувшись через цветник, прижался к теплой эмали половиной потного лба и заплакал сладкими детскими слезами, со всхлипываниями, шмыганьем и всеми прочими делами. Я плакал так долго, что наконец сделалось совестно нарушать покой мертвых. Я встал и, не глядя на маму, долго сморкался и отряхивал коленки, попутно обнаружив, что щиколотка совершенно прошла.
Наконец решился взглянуть. Она смотрела на меня с нежностью и легким юморком: ну что, мол, глупыш, наревелся? Пора и за уроки.
Оно и в самом деле, спускались сумерки. А железная дорога любит отменять электрички, не хватало еще застрять на ночь в этих красивых местах. На прощанье я смущенно взглянул на отца, но он, как обычно, витал в каких-то собственных эмпиреях.
Ну что, батько, слышишь ли ты, с ласковой усмешкой спросил я его, но он уже не ответил мне своим фирменным “чую, сынку, чую!”.
Я надеялся, что в сгущающихся сумерках мои покрасневшие глаза будут незаметны. Но все-таки я постарался сесть лицом к той части вагона, где было поменьше публики.
Это были все те же бюджетники, к своим годам уже успевшие набраться мудрости, то есть терпения. Они безропотно предъявляли билеты классическому железнодорожнику в прилизанных стальных сединах и полузабытом кителе из какого-то культовского фильма. Накаляющаяся заря набрасывала на лица легкий адский отблеск.
Контролер к явным пенсионерам не обращался, — видимо, у них были какие-то льготы. У них… У нас! Чтобы не заставлять пожилого человека ждать (сам-то ведь я вечно молод), я принялся заранее шарить по карманам и после третьего шмона убедился, что билет пропал. Но я был мудр и готов и далее переносить идиотизм земной жизни, и, когда контролер добрался до меня, я сразу протянул ему тысячную купюру.
— Потерял билет. — Я изобразил извиняющуюся улыбку.
— Сейчас выпишу квитанцию. — Прислонившись бедром к спинке сиденья, контролер полез в свою полузабытую полевую сумку. У него были классические седые усы, такой же паровозный машинист когда-то сидел в одной камере с отцовским другом: вернулся с допроса с кровавым горохом вместо усов — выдрали.
— Квитанции кончились. — Он обратил ко мне подернутый легким адским пламенем облик честного служаки.
— Да ладно, давайте без квитанции.— Я был мудр и терпелив.
— Не положено. Пройдемте к бригадиру.
Я понял, что сопротивление бесполезно, и встал. Придерживаясь за спинки, мы побрели в направлении первого вагона. Однако в тамбуре мой конвоир остановился и оборотился ко мне. Я подумал, что он хочет взять в лапу без свидетелей, и уже сунул руку в карман, когда что-то заставило меня еще раз взглянуть ему в лицо, залитое адским пламенем “лайт”.
Это был мой отец. В том самом окрыленном свитере и строгих очках главного интеллигента каратауской равнины. Только выражение лица у него было никогда не виданное — сдержанно-скорбное и отстраненное.
Я понимал, что мне надо ужаснуться или возликовать, но я оставался все таким же мудрым, то есть невозмутимым.
— Ты спросил меня, слышу ли я тебя, — суховато сказал он, — да, слышу.
Открытая дверь на тормозную площадку наполняла тамбур громом и лязгом, однако я различал его слова без малейшего усилия.
— Тебе, конечно, известна эта утешительная пошлость: человек жив, пока его помнят. Так знай: как всякая пошлость, она оказалась правдой. Но сегодня умерла моя последняя рабфаковская подружка, которая меня еще помнила, и теперь я должен исчезнуть. Потому что все остальные меня давно забыли.
— Что ты говоришь, — забормотал я, уже угадывая какую-то сквернейшую правду, — тебя помнят все твои ученики, о нас уж и не говорю, мы все тебя вспоминаем по десять раз на дню.
Но он прервал меня с легкой досадой как слишком уж откровенно завравшегося брехуна:
— Вы все вспоминаете не меня, а тот фальшивый образ, который я создал, а вы приняли, потому что вам было приятно думать, что я скромный, всем довольный, мечтаю только, как бы послужить ближнему, такому же убогому, как я сам… А я мечтал быть великим человеком, участвовать в великих делах, которые бы помнили через двести лет. Но я старался скрыть это от себя, чтобы не чувствовать себя проигравшим, и вам тоже было слишком больно понять, что человек, которого вы так любите, потерпел жизненное поражение. И вы предпочли верить в сказку о “гармонии с миром”, верить, что я не нуждаюсь ни в чинах, ни в деньгах, ни в славе, ни в бессмертии… А ведь бессмертие может прийти только через славу. Бессмертие человека в его делах — эта пошлость тоже оказалась правдой. Чтобы себя успокоить, вы твердили друг другу, что я скромный, скромный, скромный, хотя в глубине души прекрасно знали, что скромных людей не бывает — бывают только сломленные. Бог не создал человека скромным, он создал его по своему образу и подобию. Но вы предпочитали верить моим маскировочным делам и собственным лживым словам. Я не виню вас, так поступают все: когда человек страдает, его близкие прежде всего зажимают уши, чтобы не слышать его стонов. Вы тоже сумели не расслышать те стоны, которые я и сам подавлял изо всех сил, и теперь я должен умереть окончательно. Я провел все эти годы в аду, но сейчас меня изгоняют даже из ада.
— Как из ада?.. Ты же мухи… Вернее, только мух и… Всем помогал...
— Да, был маленьким человеком, удобным для других маленьких людей. За что и наказан.
Прежде было немыслимо, чтобы отец назвал кого-то маленьким, а сейчас он говорил о них даже без пренебрежения — с легкой скукой.
— А в аду что?.. Там действительно угли, сковородки?..
— Нет, эта пошлость не подтвердилась. Впрочем, наивность не бывает пошлой. Нет, никакой театральщины там нет — ни в одном из трех кругов. В них ужас нарастает по степени откровенности, с которой люди себя ведут. Третий круг самый страшный — в нем люди делают решительно все, что хотят. Второй круг уже гораздо мягче — там люди только говорят друг другу все, что думают. А первый круг, где обретаюсь я, — всего лишь скромный ад советской канцелярии. Сидишь и вспоминаешь свою жизнь. И все, что ты от себя прятал, на что закрывал глаза, — все предстает в полной ясности. Это и есть страшный суд, можно сказать — самосуд. Вся утешительная ложь опадает, и начинаешь понимать с предельной ясностью, где ты струсил и изменил своей мечте, своему бессмертию. И не просто изменил по бессилию, но еще и оправдал свою измену. Только это и нельзя себе простить — возведение слабости в добродетель. Я все оттуда разглядел, а теперь должен исчезнуть. Умерла последняя, кто помнил меня настоящим. Ты ее не знаешь, мы расстались в тридцать втором году. Ее послали на хлебозаготовки — их теперь называют голодомор, а мне повезло, в палачи не попал.
Отец всегда разговаривал как бы извиняясь, всегда стараясь что-то замять, загладить, но сейчас он говорил с какой-то легкой досадой, как будто зачитывал чужой надоевший текст. Поезд останавливался, бюджетники входили и выходили, проходя сквозь отца, и мне хотелось как-то оградить его, но я видел, что это ему нисколько не мешает, а изображать заботу не нужно, ибо он тоже видит меня насквозь.