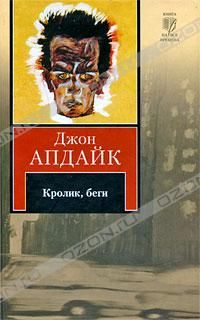Джон Апдайк - Кролик, беги. Кролик вернулся. Кролик разбогател. Кролик успокоился
— Чему быть, того не миновать, вы меня понимаете? Главное, здоровье и надежный тыл, семья, а остальное приложится. Так я считаю.
Гарри просил их пока не посвящать ремонтную службу в подробности визита господина Симады. Его преследует странное чувство, что он с каждым днем все больше распадается на составные части; когда он идет по линолеумным плиткам пола в демонстрационном зале, ему кажется, что голова его плывет в каких-то головокружительных высотах, как тогда, когда она покачивалась, увенчанная цилиндром, над щербатым, разлинованным асфальтом — в день парада в Маунт-Джадже. Вечером он едет домой и поспевает к началу выпуска новостей на канале 10 с Томом Брокоу, но только он усаживается, как Дженис понукает его снова сесть за руль «селики» и тащиться с ней через весь Бруэр в Маунт-Джадж — уже не вспомнить в какой по счету раз в его жизни.
Нельсон сбрил усы и вынул серьгу из уха. Лицо у него загорело и обветрилось, и жирку он точно нагулял. Верхняя губа его, вновь открытая для обозрения, оказалась какой-то длинной, пухлой, чуть выступающей вперед, как у покойной мамаши Спрингер. Так вот на кого он, выходит, похож; старуха всегда напоминала ему сардельку, туго набитую, в натуральной шкурке, и то же сходство Гарри начинает теперь замечать в Нельсоне. Да и движения у сына какие-то скованные, старушечьи, словно за время реабилитации из него выкачали не только всю наркоту, всю искусственную заводку, но заодно и присущую ему от рождения нервическую подвижность. Сейчас он впервые производит на отца впечатление человека немолодого, пожившего, и редеющие волосы с пятнами проплешин уже не кажутся чужеродными и не воспринимаются как временное явление, хвороба, с которой можно как-то совладать. Он вызывает у Гарри ассоциации со священником, гладеньким таким, откормленным служителем какой-нибудь невнятной конфессии или секты, вроде того недоумка, читавшего заупокойную по Тельме. Налет чинной благопристойности заметен даже в одежде, в белой рубашке с полосатым галстуком, отчего Гарри чувствует себя рядом с сыном не по возрасту молодящимся, поскольку сам он приехал в тенниске с эмблемой «Летящего орла» и мягким, свободным воротом.
Нельсон вышел встречать родителей к дверям и, обнявшись с матерью, хотел заключить в объятия и отца, неловко обхватив своего великорослого папашу за спину и притянув его книзу, чтобы коснуться щекой его щеки. Для Гарри это была полнейшая неожиданность, к тому же не из приятных: от их объятия за милю несло показухой, слащавостью и натугой, как если бы они решили внять призывам истеричных телепроповедников, которыми они на прощание напутствуют зрителей, прежде чем исчезнуть с экрана и возлюбить своих секретарш. С тех пор как возраст сына стал исчисляться двузначным числом, они почти никогда друг до друга не дотрагивались. И хотя понятно, что смысл этого жеста был примирительно-искупительный, на Гарри повеяло чем-то заученным, ритуальным, как будто его сыну кто-то где-то внушил, что так надо, но никакого родственного чувства здесь нет и в помине.
Пру, в свою очередь, тоже, кажется, обескуражена тем, что место ее мужа занял теперь некий святой отец; когда Гарри склоняется к ней, ожидая ощутить у себя на губах теплый толчок ее губ, он получает взамен индифферентную щеку, подставленную ему навстречу с пугливым проворством. Он задет и не понимает, что он сделал не так. После того, что произошло с ними той безумной грозовой ночью, она своим молчанием ясно выразила желание предать случившееся забвению, и он со своей стороны ничего не имел против такого решения и тоже помалкивал. У него теперь уже нет былой силы, избытка жизненной энергии, чтобы затевать новый роман, — нужно идти на риск, на поступки, которых от тебя бесконечно требуют, на то, что к твоей обычной нормальной жизни добавится филигранное кружево тайны, и тайна эта будет поглощать все твои мысли, грызть и мучить, и ты будешь жить с постоянным страхом, что рано или поздно все откроется и накроется. Ему невыносимо думать, что Нельсон может узнать о его тайне, тогда как осведомленность Ронни заботила его очень мало. Он даже находил в этом определенное удовольствие — все равно как пихнуть кого-нибудь локтем в борьбе за мяч под кольцом. Он и Тельма были, как говорится, два сапога пара: каждый умел трезво соразмерить риск и награду за него; совместными усилиями они создавали укромное потайное пространство, где можно было насладиться свободой, пусть только на часок побыть свободными от всего, кроме друг друга. Когда имеешь дело с людьми своего поколения, когда у вас одни песни, одни войны, одно отношение к этим войнам, одни правила и даже одни радиопередачи, ты всегда можешь с достаточной уверенностью предвидеть, чего ждать, а чего нет. Но стоит тебе связаться с представителем иной генерации — и под ногами уже зыбкий океан, и ты уже играешь с огнем. Вот почему его настораживает это, в сущности, пустячное изменение в температуре отношения к нему Пру, этот легкий холодок недовольства.
Детей сажают за стол вместе со всеми; Джуди и Гарри сидят по одну сторону спрингеровского обеденного стола красного дерева, накрытого по-праздничному, Дженис и Рой по другую, а Пру и Нельсон друг против друга на торцах. Нельсон предлагает перед трапезой помолиться; он заставляет их всех взяться за руки и закрыть глаза, и когда от неловкости они уже не знают, куда деваться, торжественно произносит:
— Мир. Здоровье. Благоразумие. Любовь.
— Аминь, — говорит Пру испуганно.
Джуди все смотрит вверх на Гарри, пытаясь понять, что он обо всем этом думает.
— Очень трогательно, — говорит он сыну. — Так вот чему учат в детоксе?
— Не в детоксе, пап, в реабилитационном центре.
— Да как ни назови, вас что там, религией нашпиговали по уши?
— Ты должен признать свое бессилие, свою зависимость от высшей силы, это основополагающий принцип АА и АН[283].
— Насколько я помню, раньше ты не слишком жаловал разглагольствования о высшей силе, скорее наоборот.
— Да, верно, я и сейчас не слишком это жалую — в той форме, в какой преподносит это ортодоксальная религия. От нас требуется только верить в силу, более могущественную, чем наша собственная, — в Бога как мы его понимаем.
На все у него готов ответ, на все есть объяснение — Гарри насилу сдерживается, чтобы не прицепиться к чему-нибудь.
— Да нет, я только рад, — говорит он. — Как поет Синатра, что угодно, только б ночь прошла. — Помнится, Мим однажды процитировала ему эту строчку. Сегодня вечером в доме Спрингеров Гарри с печальной горечью сознает, какое огромное расстояние отделяет его от Мим, и мамы, и папки, и всего их давно канувшего в вечность богобоязненного существования на Джексон-роуд в тридцатых — сороковых.
— Сам ведь ты когда-то во все это верил, — говорит ему Нельсон.
— Да, верил. И сейчас верю, — соглашается Кролик, прекрасно сознавая, что его миролюбие раздражающе действует на сына. Но ему не удержаться, чтобы не добавить: — Аллилуйя. Едва мне в сердце загнали катетер, я прозрел и увидел свет.
На это Нельсон не моргнув глазом возглашает:
— В центре нас всех готовят к тому, что нам не раз встретятся люди, которые будут смеяться и издеваться над нашим исцелением, правда, никто не предупредил, что первым в числе насмешников будет твой собственный отец.
— Я и не думал издеваться. Да ради Бога! Пусть у тебя будет столько мира, любви и благоразумия, сколько твоей душеньке угодно. Кто против? Я за. Мы все за. Скажи, Рой?
Мальчуган сердито вылупил на него глазенки, недовольный, с чего это вдруг его одного упоминают. Оттопыренная мокрая нижняя губа у него начинает обиженно подрагивать, он растерянно поворачивается лицом к матери. Пру говорит Гарри негромким, обращенным только к нему голосом, в котором он улавливает туманный намек на признание, слышит отголоски дождя, хлещущего по сетке окна.
— Рою сейчас очень трудно — ему нужно время, чтобы снова привыкнуть к Нельсону.
— Я его прекрасно понимаю, — заверяет Гарри. — Мы все мало-помалу свыклись с его отсутствием.
Нельсон с возмущением и мольбой обращает лицо к Дженис, и та приходит на выручку:
— Нельсон, расскажи нам лучше о том, как ты работал наставником, — говорит она фальшиво-заинтересованным тоном человека, который все это знает уже наизусть.
Нельсон начинает говорить, сидя до странности неподвижно, как будто его успокоили раз и навсегда, а Гарри привык к тому, что сын с младых ногтей ни секунды не сидел спокойно, весь как на иголках, и в этих его едва уловимых нервных подергиваниях было все же что-то родное и понятное и внушающее надежду.
— По большей части, — докладывает он, — твоя задача состоит в том, чтобы слушать, дать им возможность выговориться. А тебе много говорить не требуется, достаточно показать, что ты никуда не спешишь и, если нужно, будешь ждать — и слушать. Самые что ни на есть тертые уличные пацаны в конце концов раскалываются. Время от времени приходится напоминать им, что ты сам знаешь почем фунт лиха и пусть они заливают про свои подвиги кому-нибудь другому. Многие из них не только употребляют, но и приторговывают, и когда они начинают похваляться, сколько они заколотили деньжищ на том и сем, ты задаешь им очень простой вопрос: «Ну, и где же теперь эти капиталы?» — и всю их спесь как рукой снимает. Потому что денег тех давно в помине нет, — сообщает Нельсон в тишине внимающему ему родственному застолью, своим собственным во все глаза глядящим на него детям, — они их давно профукали.