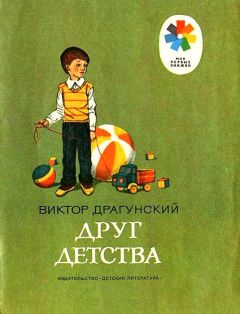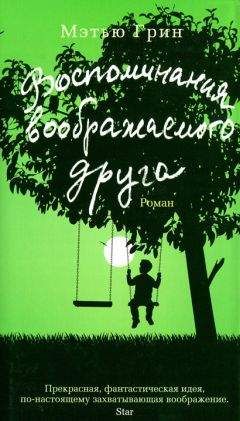Максим Кантор - Учебник рисования
И сейчас, когда все картины встали в строй, когда каждая сказала то, что должна была сказать, когда каждый цвет крикнул, что должен был крикнуть, — главным остался ровный и спокойный голос любви. Любовь присутствует в любой, самой страшной картине, благодаря ей цвет делается прекрасен и звонок, линия становится тверда. И тогда страшное уходит, а голос любви говорит: не страшись. Это не страшно. Ты теперь знаешь и понимаешь, что они сделали. Главное не в этом. Главное то, что я с тобой.
Это увидит всякий, думал Павел. И Лиза увидит, что я таким образом выразил любовь к ней, что я не изменил ей, что она всегда в моем сердце. И Юлия, моя Юлия, она поймет то, что не получалось договорить в разговорах. Я расскажу им самое главное. Та любовь, что наполняет мое сердце, — она, разумеется, принадлежит каждому из них, каждому дорогому человеку по отдельности. Но в жизни надо постоянно разделять свою любовь между людьми, и невозможно раздать всем поровну, и всегда обидишь кого-то, и даже самого дорогого. И всегда будут думать, что ты пожадничал, не додал, спрятал. Но здесь все справедливо. Это рассказ о моей любви к Лизе и Юлии одновременно — и в этом рассказе не может быть ревности и зависти. Я сделал это для всех сразу. Они увидят, что я не оставил себе нисколько, у меня нет за пазухой того, что я бы им не отдал. И тогда они увидят, что это и есть главная правда — работать сразу для всех. Другой правды нет, и любая другая любовь будет неполной.
И другие, даже те, которые не близкие, они поймут это тоже. Люди посмотрят на то, что произошло с нашей страной, и спросят себя: разве это хорошо? Разве добрые чувства нами двигали, когда мы рвали удачу друг у друга из рук? Разве это умно было, принять за пророков тех, кто хотел наживы? Разве разумно было принять моду за правду? Разве нет ничего, что было бы дороже, чем право и сила? Разве уместно рисовать закорючки и квадраты, когда надо сохранить тепло руки и нежность взгляда? Разве не самое важное в мире — человеческое лицо? Для чего же заменять лицо — кляксой? Что же это за время, когда надо стесняться того, что ты — человек?
И они поймут это, говорил Павел. Но сам не верил в то, что говорил. Павел заранее объявил, что презирает современное искусство, — ясно было, что современное искусство ответит ему тем же. Неужели простят? Неужели не спросят придирчиво: критиковать ты горазд, а покажи, что сам умеешь? Ругать квадратики и закорючки легко — докажи, что можешь лучше. Но ведь я доказал, думал Павел, глядя на свои картины. Или этого недостаточно? Или это не правда?
IIВ то время как Павел думал о возможной реакции публики, Тофик Левкоев, один из главных бизнесменов страны, смотрел на свою бывшую супругу и размышлял: а какова, интересно, будет ее реакция? можно ли довериться ее рассудительности? То, что в Зое Тарасовне рациональное начало присутствует, Тофик знал. Знал он также и про эмоциональную составляющую ее характера.
— Сама знаешь, — поделился Тофик Мухаммедович с бывшей супругой, — с бабами лучше не связываться. Всю жизнь отравите. Ты своему Татарникову плешь долбишь, а мне Белла долбит — и кому это надо?
Тофик достал из ящика стола конверт, подвинул в сторону Зои Тарасовны.
— Возьми. Акции Красноярского алюминиевого завода.
Зоя Тарасовна сидела на стуле прямо, вытянув гордую шею. Резким движением она перебросила волну волос слева направо. Жест этот напутал Тофика Мухаммедовича. Мужчина далеко не сентиментальный (многие находили его жестоким), Тофик Мухаммедович путался женских истерик, тяготился дамскими переживаниями. С мужчинами легче: в случае непреодолимых разногласий можно партнера в негашеной извести утопить. Что прикажете делать с матерью собственного ребенка? Левкоев поспешил сказать:
— Настоящие акции, не думай. Другие бумаги настригут и говорят: акции. Время такое, — оправдал своих коллег Тофик Мухаммедович, — Балабос бывшей жене акции конголезских портов всучил — а в Конго и моря нет никакого. Красноярский алюминий — надежная вещь, надолго хватит, — и Тофик Мухаммедович невольно подумал о многих коллегах, которым не суждено воспользоваться надежностью Красноярского комбината: не дожили. — Здесь все честно. Тут нашей Сони приданое.
Голос восточного мужчины приобрел оттенок беспокойной заботы, свойственный песням его родного края. Так чабан, провожая отпрыска в город на учебу, дарит в дорогу бурку. Пригодится ли дочке бурка, неясно, но алюминиевые акции точно пригодятся. Левкоев продвинул конверт с алюминиевым приданым еще дальше по столу.
— Дочке отдашь, — сказал Тофик Мухаммедович, — пусть отца помнит.
Зоя Тарасовна не произнесла ни слова, конверт не взяла, смотрела на Левкоева в упор, широко раскрыв глаза. Взгляд этот Левкоев помнил по годам, проведенным в браке с Зоей Тарасовной, хорошего этот взгляд не сулил. Сейчас кричать станет, с тоской подумал беспощадный бизнесмен. Вот сейчас оно и случится: на пол упадет и будет биться. Левкоев поспешил добавить:
— Два процента. Это знаешь сколько денег? И тебе хватит, и твоему историку.
Зоя Тарасовна молчала.
— Хочешь, — спросил Тофик Мухаммедович, — пять процентов?
Раньше думать надо было, говорил себе Тофик Мухаммедович, скупой платит дважды. Ну, что такое два процента? Тысяч пятнадцать-двадцать в месяц. Станет на бирже продавать — миллионов шесть получит. Дешево решил отделаться. Пять процентов надо отстегнуть — и разбежимся.
— Пять процентов, — сказал Левкоев. — Тут на внуков останется. Только Белле не говори. — Поскольку взгляд Зои Тарасовны не выказывал понимания, Левкоев на всякий случай повторил: — Не надо Белле рассказывать. Возьми пакет — и ступай. Не говори никому. Ты меня пожалей. Покоя нет. На работе — пожар, по суткам не сплю. Дома скандалы. Не могу больше. Скажи Соне — не надо к нам больше приходить, и звонить на работу не надо. Нервничает моя Белла.
Зоя Тарасовна встала со стула, и, предупреждая ее вероятные поступки, Тофик Мухаммедович сказал:
— Если не хватит, всегда договоримся. Через секретаря свяжемся. Я тебе прямой телефон дам — в приемную. Паренек понятливый, скажешь: я насчет алюминия — он сориентируется. А про дочку — не говори. Жизни хочу. Покоя хочу.
— Нам не надо, — неожиданно сказала Зоя Тарасовна; неожиданно для себя самой. Она стояла перед финансистом, откинув гордую голову, и говорила слова, каких и произносить вовсе не собиралась. Однако слова выговаривались ясно, и Зоя Тарасовна понимала, что говорит правильно, — у нас все есть. Зарплату получаем. Сергей Ильич — ученый, зарабатывает достаточно. Он ученый, понимаешь? Интеллигент, наукой занимается. Мы ворованное в доме не держим. В нашей семье не принято.
Конверт с акциями Зоя Тарасовна взяла двумя пальцами, как берут грязную тряпку, и уронила Левкоеву на колени.
— Белле отдай.
Охранник заглянул в кабинет и поразился искаженному лицу хозяина — впрочем, вмешательства явно не требовалось: женщина, стоявшая у стола, улыбалась и говорила негромко:
— Соня, разумеется, звонить больше не станет. Ее Сергей Ильич уговаривал вас не забывать. Татарников добрый человек, и нашу дочь такой же воспитал. Он всегда говорит: позвони Левкоевым, пусть не думают, что мы их забыли.
— Каждый день звонит, — растерянно сказал Левкоев, вспомнив упреки Беллы Левкоевой.
— Сергей Ильич заставляет. Муж считает, — надменно сказала Зоя Тарасовна, — нельзя допустить, чтобы вы решили, что мы вас стесняемся. И дочку так учит: позвони, узнай, как себя чувствуют. Нельзя показывать человеку, что он хуже. Пусть он необразованный, пусть глупый — но демонстрировать презрение нельзя.
Зоя Тарасовна тряхнула волосами, повернулась к Левкоеву спиной и, стоя в дверях, добавила еще одну фразу совершенно в духе Татьяны Ивановны:
— Кто же ворованное возьмет? Вот посадят тебя завтра — а нам что, в соучастниках ходить? В нашей семье, слава богу, бандитов нет. И дочери мы всегда говорим: не связывайся. Один раз в грязь наступишь — за жизнь не отмоешься.
Зоя Тарасовна Татарникова спустилась по парадной лестнице особняка Левкоева, а Тофик Мухаммедович еще некоторое время размышлял: обижаться ему на бывшую супругу или нет. Если это влияние Татарникова, то человека следует наказать. Однако в происшедшем есть несомненно и положительные стороны: Белла успокоится, скандалы прекратятся, обязательства перед Татарниковыми закрыты, акции алюминиевого завода — вот они, никуда не делись. Деньги, конечно, пустяковые, — что есть, что нет, разница невелика. И все-таки.
III— И все-таки первым буду я.
Первым посетителем был Герман Федорович Басманов. Он пришел за полчаса до открытия, оставил легкое пальто на руках у охраны, пожал Павлу руку своей красной морщинистой ладонью.
— Народ набьется, и картин толком не посмотришь, — объяснил спикер свой ранний визит, — а я привык вдумчиво.