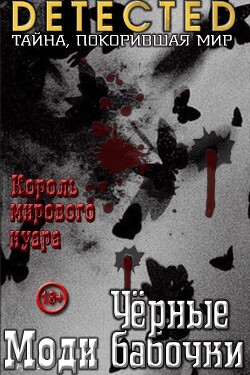Выходное пособие - Ма Лин
Иногда она говорила сама с собой по-английски. Ничего странного в этом не было. Родители регулярно говорили сами с собой по-английски, повторяя беседы со своими американскими знакомыми, коллегами, работником автомойки, кассиром продуктового, — в то время, пока бездумно мыли посуду, пылесосили или умывались. Они практиковались в своей американскости, превращая ее в блестящую оболочку, за которой скрывалась китайская суть. Пожаруста, брагодарю.
Иногда мама думала, что я — одна из прихожанок Китайской церкви Общины христиан, и тогда просила меня помолиться с ней. Хотя я перестала молиться с тех пор, как умер папа, я складывала ладони и склоняла голову. Я молилась о том, о чем она меня просила.
— Господи, — говорила я по-английски, — пусть Чжиган, любимый муж и отец, вернется к нам из больницы. Пусть он быстро поправится и окажется дома. Аминь.
— Продолжай, — требовала мама.
— Хорошо, — смягчалась я и снова складывала ладони. — Не дай бессмысленному случаю унести его жизнь. Он все сделал правильно, когда переходил улицу. Ибо, как сказано в Первом послании к Коринфянам, 10: 13, верен Бог, Он не позволит вам быть искушаемыми сверх силы, — цитировала я по памяти. — Мы верим, что все, что Ты повелишь, мы сможем вынести. Вот почему мы просим Тебя вернуть нам Чжигана: потому что мы не сможем без него, — с дрожью выдыхала я. — Во имя Иисуса. Аминь.
— Аминь, — повторяла она за мной, потом улыбалась и говорила: — Давай помолимся еще раз.
— Нет, достаточно, — отвечала я.
Отец всю жизнь много работал, допоздна засиживался в офисе, так что на ужин ему доставались холодные остатки из холодильника. Он постоянно получал повышение, отчасти потому, что приходил на работу и в выходные. Его рабочая этика была такой же, как и у многих иммигрантов, — доказать, что они полезны для страны, которая соизволила их принять. Он не особенно умел наслаждаться жизнью. Но одно исключение я запомнила. В тот вечер, когда мы с папой вместе сдавали экзамен на получение гражданства США, он повел меня в KFC на другой стороне улицы и заказал там роскошный набор с жареной курицей и всякими вкусняшками. Я не особенно хотела есть, но поскольку он никогда себя не баловал, мне пришлось съесть несколько кусков, изображая праздничный здоровый аппетит. Мы сидели у окна, и там, глядя на грузовики, несущиеся по шоссе, он ударился в воспоминания. Он сказал мне, что, когда рос в фуцзяньской деревне, мясо и яйца были таким дефицитом, что их ели только на китайский Новый год. Он рос со своими бабушкой и дедушкой, фермерами-арендаторами. Во время празднования Нового года бабушка готовила на каждого по два яйца, обжаренных в соевом соусе до хрустящей корочки. В детстве это была его любимая еда. Он ничего лучше себе и представить не мог.
— Но когда мы переехали в Солт-Лейк-Сити, — добавил он, — мы с мамой пошли в этот ресторан со шведским столом, в Chuck-A-Rama. Я раньше никогда не ел жареной курицы. И я подумал: это лучше. Жареная курица лучше яиц.
Мой папа редко говорил о прошлом: возможно, только когда он официально разорвал отношения с Китаем, то смог открыто говорить о своей жизни там. Я сидела тихо, чтобы не нарушить этого волшебства, надеясь, что он расскажет еще. И он рассказал. Он говорил о том, как вставал рано утром в фуцзяньской деревне и шел со своим ручным козленком в горы собирать хворост. Вечером после школы он сам изучал английский по переводу французского романа «Красное и черное». Каждое слово ему приходилось смотреть в словаре.
— О чем эта книга? — спросила я.
— О человеке из низов, который хотел улучшить свою жизнь.
— Ему это удалось?
Отец улыбнулся:
— Да, но дорогой ценой. Там нет счастливого конца.
К этому времени солнце уже почти село. Офис службы гражданства и иммиграции на другой стороне улицы закрылся, и его служащие — те самые, которые решали вопрос о нашем гражданстве, — выезжали с парковки. На столе лежала кучка костей. Мы наелись, так что, если мама приготовила ужин, она будет ругаться. Но для папы KFC был как круг почета, и я не посмела бы ему мешать.
Странно, но о том, как на китайский Новый год ели яйца, потом рассказывала мне и мама, только в ее версии это она росла в деревне, хотя она-то выросла в самом Фучжоу. Такое ощущение, что она впитала память своего мужа, как свою собственную. Или, может быть, она хотела говорить от его лица, чтобы его воспоминания не пропали.
Постигнуть скользкую логику моей мамы было все равно что схватить струю воды. Но даже в ее последние дни я иногда могла понять что-то, выхватить моменты просветления.
— Мы были так близки, — время от времени ни с того ни с сего говорила она. В ее словах слышался только самый легкий оттенок тоски.
— Да, — подтверждала я, хотя она могла обращаться к кому угодно. — Мы были так близки.
— Когда мы жили в Китае, — продолжала она, — и ты была маленькой.
— Да, я помню, — говорила я, складывая ее руки. Кожа у нее была нежнее, чем у младенца.
Она перестала есть, и, как говорила сиделка, теперь оставалось только ждать. Хотя в эти дни смерть всегда была рядом, под самый конец туман у нее голове, казалось, развеялся. Она узнала меня и торжественно обратилась ко мне по-китайски.
— У твоего отца большие амбиции. Он хотел для тебя лучшей жизни, а это возможно только в Америке. Ты единственный ребенок. Ты должна преуспеть больше, чем он; во всяком случае, не меньше.
— Но что я, по-твоему, должна делать? — спросила я, боясь признаться самой себе, сколь многого не знаю.
Мама закрыла глаза. Я подумала, что она заснула. Но потом услышала ее дыхание, долгий, дрожащий выдох, от которого она вся содрогнулась.
— Я хочу того же, чего хотел твой отец: чтобы ты нашла себе применение, — наконец сказала она. — Неважно в чем, но мы хотели, чтобы ты нашла себе применение.
17
Я встала. Поехала утром на работу. На Вильямсбургском мосту я заметила, что небо выглядит по-другому. Оно было желтым, такого оттенка, какого я никогда раньше не видела: непонятный желтушный шартрез, застарелый синяк. Позже, пытаясь понять, когда начался Конец, я всегда вспоминала цвет неба в тот день.
Прошлой ночью я не спала. Я лежала в дешевой кровати в своей квартире-студии в Бушвике, прислушиваясь к звуку собственного дыхания. Я думала о следующих днях на работе. Когда я не могла заснуть, то выдумывала какую-нибудь проблему с производством Библий, которую нужно было решить. Я подсчитывала стоимость швейцарской бумаги, которую клиент требовал использовать вместо китайской, потому что та была слишком рыхлой и типографская краска протекала на другой разворот, так что псалмы смешивались с притчами, Матфей противоречил Марку, а Петр теснил Иоанна. Я оценивала задержку в графике производства и поставок, к которой приведет эта теоретическая ситуация. Я знала, что я одна.
Пока поезд не нырнул обратно в туннель, у меня в сумке звякнул телефон — еще одно сообщение от Джонатана: Уезжаю в воскресенье. Поговори со мной пжлст
А что, если написать в ответ: Я беременна! От тебя, лол.
Мне нужно было как-то сообщить ему эту новость. Мы не виделись уже месяц — с тех самых пор, как он сообщил мне, что покидает Нью-Йорк. Он писал имейлы и эсэмэски, звонил мне. Я не хотела скрываться, но так мне было легче. Особенно потому, что я не знала, оставлю ребенка или нет.
Я выключила звук у телефона.
Я доехала до Канала, пересела на линию Q и добралась до Таймс-сквер. Утром в метро было мало народу. Когда я вышла на улицу, желтизна неба усилилась. И все вокруг становилось желтоватым. Даже на Таймс-сквер почти не было туристов. Вестибюль здания был пуст, если не считать Манни.
— Что ты здесь делаешь? — спросил он.
— Иду на работу.
— Погоди. Ты что, не читала…
— Извини! — крикнула я и юркнула в лифт. Я была не в том настроении, чтобы выслушивать шуточки о необычной для себя пунктуальности. Был четверг, без четверти девять, что для меня и впрямь довольно рано.