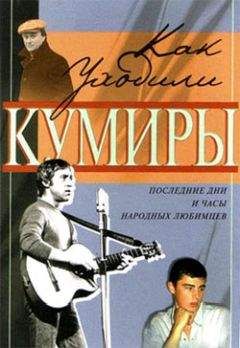Миграции - Макконахи Шарлотта
Я закрываю книгу.
— Они наверняка выяснят, чьим паспортом ты воспользовалась, — предупреждает она, как будто я сама этого не знаю.
— Каким образом?
— Хрен их знает. Как-то же полиция все выясняет. — Она сердито садится, опускает ноги с койки. — Что ты от меня скрываешь? Потому что ни фига ты не похожа на этакую беглянку.
— Я не беглянка.
— А должна быть беглянкой! И бояться тоже должна, Фрэнни! Не хочу я, чтобы ты снова села в тюрьму.
Я слышу слезы в ее голосе и с ужасом понимаю, что она плачет.
— Господи, ну не надо, — пытаюсь я ее успокоить. — Оно того не стоит.
— Пошла ты в жопу, — рявкает она, закрывая лицо руками.
Я неохотно выбираюсь из постели, подхожу, сажусь с ней рядом.
— Ну, Лея, хватит.
— Самой-то тебе плевать, да?
— Ну, в принципе, нет. — Хотя какая разница, если ты твердо решил умереть задолго до того, как тебя поймают.
Лея смотрит на меня, и боль у нее в глазах какая-то странная, едва ли не обольстительная, а потом я не успеваю отвернуться, а она уже целует меня.
— Лея, погоди, не надо.
— А чего не надо-то? — спрашивает она губы в губы.
— Я замужем.
— Фиг оно тебя с Бэзилом остановило.
— Там речь шла о разрушении, так что не имело значения. А это имеет.
Она тихо вздыхает — стала вся такая томная и искушенная.
— Ну и пусть.
Еще один поцелуй, теперь и мне хочется, хочется погрузиться в него, пусть он затмит все остальное, пусть близость залечит мои раны, — мне кажется, залечит, сможет, но какой же я окажусь предательницей, не только по отношению к Найлу, но и по отношению к собственной уверенности, к миграции, которую начала. Есть лишь один человек, которого я вознамерилась уничтожить, — я сама, и не хочу я никакого попутного ущерба.
А потому я как можно мягче завершаю поцелуй, возвращаюсь на койку и гашу свет. Лея смотрит на меня сквозь тьму, безмолвная, вожделеющая, растерянная. А потом тоже укладывается спать.
«Мы — чума этого мира», — часто повторяет мой муж.
Сегодня слева по борту — огромный кусок суши, меня это удивило, потому что на карте, которую я рассматриваю, никакой суши нет. Подойдя ближе, я понимаю, что это огромный остров из пластикового мусора, а на берегах его — мертвые рыбы, морские птицы и тюлени.
Я пишу Найлу; стопка писем, которые предстоит отправить, распухла от груза моих мыслей. Я пытаюсь осмыслить наши отношения, ошибки, которые я наделала, извилистые пути, которые мы для себя выбрали. Я размышляю над тем, что все могло быть иначе, но пытаюсь на этом не сосредоточиваться; во всех этих «если бы» живут одни сожаления, а сожалений у меня и так уже целый океан. Вместо этого я большую часть времени провожу в неге, в мгновениях, что спрятаны между словами и взглядами, в строчках, которые он мне писал во время моих отлучек, строчек неизменно великодушных и нежных, несмотря на мои уходы. Я живу в ночах, которые мы провели в постели, читая друг другу, в воскресных утрах, когда мы наливали друг другу ванну, в бесконечных поездках, чтобы увидеть птиц, поездках молчаливых, безупречных, взаимно воодушевляющих. Пытаюсь сделать вид, что таких мгновений у нас еще будет много.
Мы идем к югу вдоль побережья Бразилии. Каждый день начинается с надежды, мы проводим его, вглядываясь ввысь, высматривая, выискивая, боясь моргнуть, и заканчивается в безвоздушности отчаяния. Осталось всего два трекера, но самих вас гораздо больше, и вы наверняка близко. Только где вы? Машете ли по-прежнему своими крылышками? Боретесь ли с ветрами, волнами и усталостью? А что, если я доберусь до Антарктиды, а вас там не окажется? Если вы, как и другие, погибнете в пути? Мои жалкие попытки отыскать в конце своей жизни смысл окажутся бесплодными.
Гадаю, имеет ли это хоть какое-то значение.
Гадаю, будет ли какой-то смысл в моей смерти. В смерти животных был смысл, но я не животное. Жаль, но — нет.
Гадаю, сможет ли Найл простить меня, если я не справлюсь.
Первым обесточивается радио. Лея и Дэш умудряются его перезапустить, но ценой взрыва возмущения на кухне: там отключаются холодильник, микроволновка, чайник и плита. Мы торопливо поглощаем то, что нужно хранить в холодильнике, но все равно очень многое уходит в мусор.
Каждый день что-то отключается; по словам Леи, потому что судно автоматически перенаправляет электроэнергию в автопилот: он потребляет больше всего остального и остается самой важной из бортовых систем — за исключением системы навигации. Мы остались без телевизора, без холодильника для продуктов. Повезет, если дойдем до теплых краев, прежде чем отключится отопление. Горячая вода то есть, то нет, кто-то из нас постоянно проверяет, как она там, когда можно быстренько принять душ или налить чашку чая. Скоро отключается и автопилот: аккумулятору не хватает мощности его поддерживать. А на следующий день и система навигации.
Никто не говорит об этом ни слова. Постоянно предпринимаются попытки починить то, что отключилось. Лея и Дэш днем и ночью копаются в оборудовании, иногда что-то удается запустить, по большей части — нет. Остальные круглые сутки поддерживают судно в движении, вычерпывают воду из моторного отсека и с палубы, следят, чтобы всюду было сухо. Без автопилота Эннис почти не спит и проводит все дни над лоциями, компасом и секстаном — прокладывает курс так, как это делали моряки древности. Все это очень страшно, я чувствую, как по членам команды волнами прокатывается страх, но при этом вижу, как в капитане тихо проклевывается росток самозабвения — мы возвращаемся к тому, как когда-то жил мир. Этот океан Эннису не знаком, и все же мне кажется, что есть в его сердце древний уголок, которому ведомы все океаны — как они ведомы древнему уголку и моего сердца.
Не только мы с Эннисом, но и все члены экипажа ищут утешения в красных точках — крачках. Они один за другим поднимаются на мостик, чтобы отогнать растерянность, убедиться, что маячки надежды ведут нас верным курсом.
— Пора остановиться, — долетают до меня однажды слова Аника, обращенные к капитану. — У нас были грандиозные планы, мы далеко продвинулись, но теперь, брат, все кончено. Птицы слишком нас опередили, да и судно разваливается.
Я думаю: теперь всё. Невозможно вот так брести до бесконечности.
Эннис же только и отвечает:
Пока рано.
Я смотрю, как капитан возвращается на мостик, как Аник смотрит вслед своему другу. Знаю, что Эннис, видимо, думает: мы слишком далеко зашли, останавливаться поздно. Он еще не добрался до той черты, которую не может пересечь. Не знаю, где проходит моя черта, но и я до нее еще не добралась.
Я осторожно подхожу к старшему помощнику, пытаюсь его подбодрить.
— Он проведет нас через все это, — произношу я мягко. — Он сильный.
Аник, не глядя на меня, горько усмехается:
— Чем ты сильнее, тем опаснее для тебя мир.
22
ИРЛАНДИЯ, ГОЛУЭЙ.
ОДИННАДЦАТЬ ЛЕТ НАЗАД
В первую годовщину нашей свадьбы самое сильное мое чувство — изумление. Найл ничему не удивляется, а я, по крайней мере частью своей души, про себя полагала, что это всего лишь фривольное приключение, которое в итоге ничем не кончится. Мы обнаружим друг в друге слишком много неприятного, я запаникую, сбегу, ему станет со мной скучно. Иногда за уборкой мне начинает казаться, что мы на пару играем в игру «Кто первый струсит», и я начинаю гадать, кто первым признает, какие мы все-таки идиоты, пойдет на попятный, рассмеется, выбросит белый флаг и объявит: занятно было, да, дружок, а теперь все, вернемся каждый в свою настоящую жизнь, займемся поиском настоящих мужей и жен. Сосуществовать с незнакомцем — значит жить в наготе, мучительной, постыдной.
Но сегодня — как, собственно, и каждый день — я поражаюсь тому, как крепко мы друг в друга влюбились.
Вот это удача. Вот это сила воли.
В честь годовщины мы отправляемся погулять в город, дрейфуем из одного паба в другой, в каждом выслушиваем музыкальную программу. Мне очень нравится это занятие, потому что в звуке скрипки я всегда чувствую нечто необъяснимо родное. Музыканты садятся на свои места, музыка крепнет, всеобщее удовольствие почти что можно пощупать.