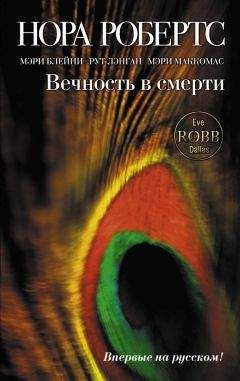Ирвин Шоу - Люси Краун
Она необходима.
Что за проклятое лето! Это была его последняя мысль перед тем, как встать, раздеться не зажигая света и лечь в постель.
На следующее утро Оливер нашел в почтовом ящике письмо от Люси. Он уже выходил из дома, когда пришел почтальон. Остановившись у двери дома, Оливер окунулся в теплые лучи утреннего солнца. Он вертел конверт в руках, болезненно ощущая текущую вокруг утреннюю жизнь — соседей собирающихся на работу, прощающихся с детьми, торопящихся на поезда и автобусы, семенящих через зеленые лужайки. Оливер отметил про себя, что на фоне деревьев и цветов таких ярких в это солнечное утро люди, казалось, уже несут на себе отпечаток серости ждущих их контор и фабрик.
Оливер не сразу осмелился открыть письмо. Он разглядывал знакомую надпись на конверте — нестройные детские буквы, которые, казалось, не всегда подчинялись руке и которые часто трудно было прочитать. Где-то он слышал, что почерк с уклоном влево говорил о сдержанности, лицемерии и неудовлетворенности собой. Он так и не мог припомнить, откуда это. Может, речь шла совсем о другом почерке и он просто перепутал. Когда-нибудь он найдет какую-то книгу на эту тему проверит.
Он вскрыл конверт и начал читать. Послание было коротким и без всяких извинений. Она только сообщала ему, что уходит от него, потому что дальнейшая жизнь в одном доме с ним и Тони кажется ей невыносимой. И подпись — без всяких там «С любовью». Просто «Люси».
И ни слова о Тони, ни одного вопроса о том, что решил он сам, никаких сомнений или предложений. Никогда раньше она не писала подобных писем. И если бы не почерк, он ни за что бы не поверил, что писала Люси.
В тот же день он позвонил Сэму Петтерсону и пригласил его на ужин. Что ему очень нравилось в Сэме, — это то, что с ним в любой момент можно было встретиться с глазу на глаз. Сэму только нужно было предупредить жену, что он не будет ужинать дома, и вопрос был решен. Может, Сэм знает какой-то секрет, может, именно он может рассказать ему что-то о семейной жизни.
Они ужинали в гостинице, взяв бутылку вина. Оливер ел с наслаждением и аппетитом после десяти дней самостоятельного ведения хозяйства. За едой они непринужденно болтали на своем полном недомолвок и сокращений языке, который обычно является результатом многолетней дружбы. И только когда стол был убран и подали кофе, Оливер сказал:
— Сэм, я пригласил тебя на этот ужин, потому что мне нужен твой совет. У меня неприятности, мне нужно принять важное решение и ты, наверное, можешь помочь мне… После этого не спеша отпивая кофе и не глядя на Петтерсона, Оливер рассказал ему все с самого начала — с того самого телефонного звонка Тони, — свой приезд на озеро, состояние ребенка, поведение Люси, наотрез отрицающей обвинения сына, признание Баннера, ну в общем все подробности этой драмы.
Оливер четко и размеренно произносил слова, методично излагая Петтерсону факты без всяких эмоций и оценок, как главный свидетель, дающий показания после аварии, как доктор, описывающий симптомы загадочной болезни специалисту, к которому обращается за консультацией.
Петтерсон слушал внимательно, лицо его было непроницаемо. Про себя он думал, что никогда еще ему не доводилось встречать человека, так педантично и скурпулезно продуманно излагающего такой драматичный период своей жизни. Оливер говорил о любви, желании и измене как докладчик на историческом семинаре по истории восемнадцатого века. И при этом Петтерсон, бесстрастно слушающий друга, вдруг почувствовал острый укол ревности при мысли о том, что если уже Люси в конце концов, выбрала кого-то, почему не его.
И ко всему этому примешивалось ощущение легкого удовлетворения. Оливер, который никогда не обращался ни к кому за советом, Оливер, самый самостоятельный и скрытый из его друзей, обращается к нему за помощью в момент терзаний и раздумий. Это придавало Петтерсону сознание собственной значимости, какого ему еще не доводилось испытывать в присутствии Оливера. И в то же время это откровение порождало совершенно новое чувство любви и сострадания к другу. Петтерсон отметил про себя, что никакая дружба не может считаться полноценной, пока друг не обратится к тебе за помощью в трудную минуту.
Сидя в укромном углу ресторана, вдали от других посетителей, Петтерсон внимательно вслушивался в размеренный и четкий голос Оливера. Он хотел и сам все разложить по полочкам, как будто стоял на пороге своей операционной, где малейшее сомнение или непонимание могут разделять жизнь и смерь; это был еще один случай, когда нельзя было ошибиться.
— …Я никогда и не думал, что с нами может произойти нечто подобное. Это просто не укладывается в голове, — говорил Оливер.
Петтерсон усмехнулся про себя, не меняя при этом выражения лица. Друг мой, подумал он, нет в мире ничего невероятного.
— И как именно это произошло, — продолжал Оливер. — Чертовски банально. С двадцатилетним гувернером! Это просто как в анекдоте, услышанном в курилке!
Петтерсон иронично решил про сея, что надо посоветовать Люси быть пооригинальнее в следующий раз. Выбрать, скажем, горбуна, или губернатора Южноафриканской провинции, или может негра, играющего на барабане. У ее мужа просто отвращение к очевидным вещам.
— Когда женщина хочет найти любовника, — вслух резюмировал Петтерсон, — она выбирает из подручного материала. И литературные ссылки здесь не при чем. Никто в такие мгновения не изображает из себя героиню старого анекдота.
— Что значит найти себе любовника? — резко отреагировал Оливер. — Ты хочешь сказать, что Люси искала любовника?
— Нет, — честно признался Петтерсон. — По крайней мере раньше.
— А теперь…
— После всего случившегося, это неудивительно.
— Что ты имеешь в виду? — в голосе Оливера проскользнули нотки враждебности.
— Измена, — тихо пояснил Петтерсон, — это форма самовыражения средней американки.
Некоторое время Оливер, старался подавить злость и раздражение. Затем он рассмеялся.
— Видно, я обратился как раз по адресу, — сказал он. — Ладно, философ. Продолжай.
— Ну давай на минутку посмотрим на все это ее глазами, — развивал мысль Петтерсон. — Что ты для нее делал со дня вашей свадьбы?..
— Очень многое, — перебил Оливер. — Я заботился о ней каждую минуту все эти пятнадцать лет. Может, это звучит самонадеянно, и я никогда не скажу ей это в глаза, но она слишком хорошо жила все это время, без всяких забот и хлопот, и как бы мне туго не приходилось временами, я и словом ей об этом не обмолвился. Господи, да она единственная женщина в этой стране, которая понятия не имеет о том, что мы пережили Депрессию. Она по сей день не может толком заполнить чековую книжку и не помнит, когда нужно платить за электричество. Я скажу тебе, что я сделал для нее — снял с нее всякую ответственность, — рассержено заключил он, будто Петтерсон защищал против него интересы Люси в суде. — Ей тридцать пять лет, и она не имеет ни малейшего представления о тяготах жизни двадцатого века. Пятнадцать лет она вела образ жизни школьницы на каникулах. И не спрашивай, что я сделал для нее. Чему это ты так киваешь?..