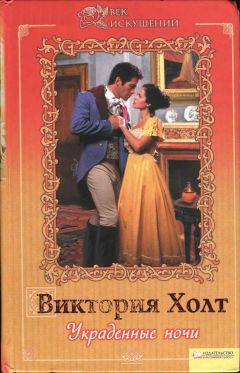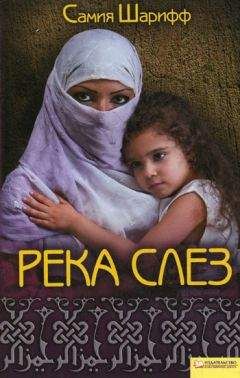Елена Катишонок - Свет в окне
…Таинька не одна такая – с людьми так уж бывает: каждый уверен, что ему пришлось горше, чем другому, вот как с чернилами замерзшими.
Может, завтра женщина пожалеет, что рассказала ей так много, но человек так уж устроен, что должен выговариваться хоть изредка. К тому же Дора ей чужая, приехала и уедет, увезет ее тайну и боль в свой Кременчуг, откуда до Винницы намного ближе, чем досюда.
– Война, Таинька, – медленно сказала Дора. – Редко какая семья не пострадала.
Помолчав, добавила:
– Особенно из наших.
Таисия достала из сумки папиросы и вышла.
Олька слышала, как разговор коснулся Ильки-Лилькиной бабки (ее за глаза называли Боцманом), но поняла не все. Конечно, нашим досталось в войне больше всех – и на фронте, и в тылу, но Дора как-то по-особенному сказала про наших. Или показалось, и с бабкой-Боцманом это никак не связано?
В тот же вечер мать с Сержантом ушли в кино. Звали и Дору, но та отказалась: «Хочу лечь пораньше». Уложила Ленечку («ты, Оленька, делай уроки, не отвлекайся»), так что можно было спокойно читать «Дневник Анны Франк», наполовину задвинутый собственным школьным дневником. На кухне слышался плеск воды. Дора тихонько звякала тазом. Потом она вышла, в своем ставшем уже привычным халате, пахнущая хвойным мылом. Небольшой узелок волнистых черных волос был чуть влажным.
– Привыкла я, – пояснила зачем-то с извиняющейся улыбкой, – у нас дома ванна, горячая вода. А можно и в тазике помыться.
Развесила полотенце редкой красоты: розовое, с яркими изумрудными и желтыми цветами. Халат у нее тоже был в цветах – мясистых бордовых розах по фиолетовой фланели. Причесав и подколов волосы, повернулась к Ольке:
– Про что книжка, Оленька?
На белой обложке был контур занесенного в шаге сапога и название, больше ничего.
Как ответить, про что – про войну? Про любовь? Про смерть?
– Вот это убежище, где они прятались. Там не только Анна была. Книжная полка отодвигалась, и здесь была лестница.
Дора держала расческу в руке и сжимала ее все крепче, не замечая, что зубья впиваются в руку. Долго смотрела на портрет девочки.
– Правда, она милая какая? – спросила Олька. – Ей здесь тринадцать лет.
Как мне, подумала. Ровно столько же.
– Тоже из наших, – ответила Дора.
Это поставило Ольку в тупик. Ну да, она ж не читала!..
– Нет, – она говорила тихо, чтобы не проснулся Ленечка, – нет, не наша. Она в Голландии жила. Просто имя такое, что оно много где есть. У нас в классе тоже Анна есть, Кудрявцева, но ее все Нюрой зовут. А Анна Франк в Амстердаме жила, это столица Голландии, мы проходили. Я уже дочитываю; хотите, дам почитать?
– Из наших, – повторила Дора. – А идише мэйделэ. Ты ложись, Оленька: поздно уже.
Жизнь стала не только вкусной, но и намного более легкой: Дора почти полностью разгрузила Ольку от домашних дел. Разгрузила бы и полностью, если б не заметила невесткиного недовольства, которое та и не пыталась скрыть; однако заметила и пустилась на маленькие хитрости. «Вытри, Оленька, посуду», – и совала ей в руки полотенце, хотя все уже было вытерто, кроме двух-трех блюдечек, или: «Помоги мне накрыть на стол», когда оставалось только принести хлеб. Днем, накормив Ольку обедом («ешь-ешь, вон худенькая какая, прямо як тріска»), выпроваживала из дому:
– Ты иди погуляй, погода вон какая хорошая, а на обратном пути зайди за Ленечкой в садик. Ступай-ступай, я полы мыть буду.
Олька убегала, не веря своему счастью, что можно свалить и что полы будет мыть не она, а Дора, которую назвать бабушкой все же не умела. «Як тріска», повторяла про себя. Треска, что ли?..
– Ну, классная у тебя бабка! – заявила Томка. – Она к вам надолго?
– Не знаю, – Олька пожала плечами.
– Слышь… а как она с батей твоим, через столько лет?
От «бати» Ольку передернуло. Если у Сержанта нашлась мать, то для Ольки он все равно оставался Сержантом, а никаким не «батей».
Она незаметно и внимательно наблюдала за обоими и поняла, что они словно бы стесняются друг друга. Сержант начал почему-то называть Дору «мамашей», и слово это звучало так, будто он шутил. Например, когда кто-то заходил в гости, он представлял ее каким-то дурацким клоунским голосом: «А вот и моя мамаша нашлась!». От этого всем становилось неловко, и Дорина хлопотливость: «Вот чаю, чайку сейчас попьем!» ничему не помогала; печенье, впрочем, все охотно ели и хвалили. Зачем он притворяется, недоумевала и злилась Олька, она ведь все понимает. Дору было жалко, и Олька мучилась, что не умеет выразить ей сочувствие.
Старуха не понимала, но чувствовала, что сын фальшивит, фальшивит и знает об этом, – потому, наверное, что абсолютный музыкальный слух неприложим к человеческим отношениям. Не понимала и старалась все исправить и улучшить теми средствами, которые были в ее распоряжении: повкусней и посытней накормить, окружить уютом, чистотой и теплом – всем тем, чего так долго у Володеньки не было, ведь мальчик прямо из детдома попал в казарму. А разве детдом не казарма? Она быстро поняла, что Таисия хозяйка никакая, зато строгая мать (и это хорошо, поспешно добавляла про себя), что тринадцатилетняя девочка дом вести не может: ребенок есть ребенок, ей расти надо. Кабы не отчаянная теснота, пожила бы она здесь годик – да хоть полгода, все же им облегчение. Однако об этом можно было мечтать по ночам, когда все спали, мечтать и готовиться к возвращению домой: Дора чувствовала сгущавшееся недовольство невестки. Это недовольство пробивалось сквозь все ее комплименты Дориным борщам и рассольникам, сквозь все «вы-нас-совсем-разбаловали-Дора-Моисеевна», что звучало как «пора и честь знать».
Пора было собираться, и единственное, что не отпускало, это болезнь сына.
С этого все начало кончаться.
– У него кашель, – уверяла Тая. – То лучше, то хуже; вы же сами видите. Бывает, что неделями ни одного приступа. А то вдруг опять… Правда, Вовк?
Правда, согласно кивал сын; правда.
Хорошо, что они в таком согласии живут, думала Дора, однако снова и снова слышала, как сын захлебывается кашлем, и повторяла с беспомощной болью, когда приступ кончался: «Володенька, тебе же серьезно лечиться нужно, Володенька». Случилось так, что вызвали «скорую», и «Володеньку» увезли ночью с кислородной маской. Дора, обезумев от страха, выскочила за машиной и стояла на тротуаре, не замечая намокших тапок и тяжелого мокрого снега, падающего на халат с яркими розами.
На следующий день он вернулся, размахивая какой-то медицинской бумажкой, и объявил, что ложится в военный госпиталь. Ужин прошел мрачновато. Близилось 23 февраля, что означало не только усиленные репетиции оркестра и большой концерт в Доме офицеров, но и праздник, а он должен торчать в койке! И хотя Таисия сама вызвала «скорую», она тоже сидела с надутыми губами и на свекровь не смотрела, словно это она, Дора, своими разговорами о болезни накаркала все обрушившиеся сложности.