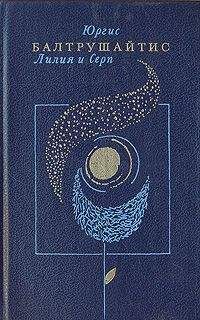Вержилио Ферейра - Во имя земли
Не знаю, говорил ли я тебе о ней и был ли справедлив, когда рассказывал. Потому что сейчас у меня о ней составилось любопытное представление, но я его еще не осознал до конца. И первый вопрос… но ты ведь знаешь, Моника, по мере того как человек приближается к земле, уровень его этажности падает, и это первый вопрос. Ответ на него я увидел в отношении доны Фелисидаде к другим обитателям приюта. Сколько ей лет? Сорок, сорок пять. Но столько ей было всегда. Тот, кто на командных высотах, — всегда в том возрасте, в котором командуют, дорогая, а если он стареет, то должен кончить командовать и заняться вязанием или выращиванием цветов. Да, я видел ее отношение к другим обитателям приюта и подумал: а если бы так со мной? И со мной кончилось тем же самым, и я понял, что это в порядке вещей, ее превосходство и тому подобное — все во власти доны Фелисидаде. Как-то я обратил внимание, что она уже не обращается ко мне: «Сеньор доктор». А лишь сеньор и в определенные моменты довольно жестко и даже просто «вы»: «Вы разве не видите, что эти брюки необходимо погладить? Неужели вы не заметили, глядя в зеркало, что на вас рубашка без пуговицы? Где это вы видели, чтобы кто-нибудь носил брюки без подтяжек?» Такое случилось со мной однажды, возможно, по рассеянности, не знаю, но она это заметила мгновенно. Я ей поклоняюсь, дорогая, как Богу, со страхом и уважением. У меня еще в моем распоряжении несколько нерастраченных чувств — все мы их имеем, Моника, что есть, то есть, но не все знаем, как их употребить, если не предоставляется случая. Моя мать заглядывает в дверь и говорит: «Я тут». Да, иногда заглядывает и говорит: «У меня теперь все похищено…» Я должен пользоваться чувствами с осторожностью и экономно. Подойду-ка к своему ящику с костями и чувствами и выберу одно. Но в этот самый момент в памяти моей всплывает один довольно сухой разговор Марсии и доны Фелисидаде относительно моего белья. Я при нем присутствовал, но никто меня в него не втягивал. И потому я не вставил ни единого слова. Происходило это в моей комнате, много позже моего переселения, я смотрел на голубей, прилетавших из неведомого. Но в какой-то миг Марсия все же прервала мое созерцание.
— Не помнишь ли ты, сколько у тебя было носовых платков?
Я ни о чем подобном не помнил и бросил наугад — десять, и тут Марсия разозлилась:
— Десять?
Скорее всего, двенадцать, но дона Фелисидаде хотела мне дать одиннадцать, среди которых один отличался от всех остальных. А еще один совсем запутывал дело, «Ты помнишь, твой это платок или нет?» Ну как я мог подобное помнить?! Потом они перешли к подтяжкам, а я вернулся к голубям. Но теперь дона Фелисидаде настаивала, что мне необходимы две новые рубашки, пара рубашек у меня была, но они были старые.
— А ты что скажешь? — спросила меня Марсия.
Я пожал плечами, но дона Фелисидаде настаивала: две по меньшей мере.
А все потому, что ей нравилось видеть меня хорошо одетым, и вполне понятно: она проявляла строгую материнскую заботливость, и я ее, дорогая, очень любил за это. Очень придирчивую заботливость, у меня не раз был случай в том удостовериться. С легким переходом чувств от одного к другому, не знаю, как это тебе объяснить, мир делается более приемлемым.
— Послушай, — говорю я Марсии, очень быстро. — Принеси мне книги, которые стоят на этажерке во втором ряду, ты их сразу увидишь. Они по теории права.
— Ты думаешь, они так и стоят там, где ты их оставил? Ты считаешь, что кто-то в доме может уследить за детьми. Но я посмотрю, постараюсь принести то, что ты просишь. Но где здесь ты собираешься разместить эти книги?
— И принеси мне вазу из Шарруа, которая стоит на столике для сервировки. И картинку Резенде[26] «Коса», на ней мать заплетает косу дочери.
Я обратил внимание, что Марсия замолчала, и подумал, что она, должно быть, разорвана на мелкие кусочки, — ну вот опять… я же говорил о доне Фелисидаде. Она, надо сказать, женщина высокая, держится прямо. Суровая. Одевается по-деловому, всегда в темном, как ты уже знаешь, чтобы соответствовать работе, которой занята. Женщина неожиданная, — как это сказать? — без прошлого и будущего, возможно, рожденная из головы Юпитера. Никто не знает, откуда она и кому принадлежит приют. Она тверда в решениях, всегда одинаковая и служит вечности. Приют, возможно, связан с богадельней, но я думаю, скорее с капитализмом. Скажем, с расширением какого-нибудь банка, или с предпринимательской деятельностью какого-нибудь важного лица, заинтересованного в прогрессе. Дона Фелисидаде сотворена из нетленной материи, такой, как мрамор, железо или Ветхий завет. Я ее очень люблю. Она опора жесткая, но крепкая, а я так одинок, моя дорогая. Ее бдительность непоколебима.
— Послушай, Марсия. Принеси мне еще кассеты с музыкой Баха.
Охват ее беспределен: стоит нам только о чем-нибудь подумать, а она уже тут как тут. И так во всем, и в большом, и в малом, и это касается всех, а не только меня. Поверять ей можно самое сокровенное, так же как поверяли евреи козлу — могила. Она все взваливает на свои слабые плечи. Я, правда, этого еще не делал, но только потому, что самого сокровенного у меня нет. Все растрачено, я один, как перст. Она всегда внимательна ко всему, даже если это касается насморка или работы желудка, помню, как она хотела знать, когда и как у меня опорожняется кишечник. И очень строга, но не ради наказания, а ради Господа. К примеру, эти мои хождения в отделение «А». Совсем забыл, я скоро должен туда идти, чтобы узнать, как там Фирмино. А теперь послушай.
Ты, должно быть, думаешь: теперь этот дурак никогда не выйдет из приюта? Никогда больше не увидит существующего мира? Никогда не почувствует потребности в свежем воздухе? Первый этаж приюта очень просторен. В нем два лифта. Один только для персонала, а другой — почти всегда испорчен, думаю, что работает для полиции. «Ну и что?» — отвечает дона Фелисидаде, когда ей кто-нибудь о том говорит. И действительно. Здоровые поднимаются пешком, а параличные сидят себе на месте, ну и что? Однажды я сказал: пойду прогуляюсь…
— Пойду прогуляюсь, дона Фелисидаде. Здесь, недалеко.
— Как считаете нужным. Только внимательнее с машинами.
И тут же я почувствовал, что одной ноги у меня нет. И также подумал, что тот, кто переступит через НЕТ, либо вернется, либо нет. И понял, что Бог вездесущ, и его глаз тоже. А его лоно хорошо, как успокоительное средство. И не вышел. Но едва только принял решение не выходить, как же заныла душа, Моника! Сразу же, как принял решение, да и до того, как принял, сколько же доводов я перебрал лишь для того, чтобы, сочтя их разумными, не выходить. Разница температуры, уличное движение, неумение как следует пользоваться костылями. Мои головокружения, я еще о них тебе не говорил? Возможная неожиданная встреча с кем-нибудь из знакомых, кто еще меня не видел без ноги с подколотой брючиной. И еще, и еще. И кроме этих, был еще один, Моника, еще один довод — его око и его лоно хороши, как успокоительное средство. И все-таки однажды я вышел, посмотрим, как ты выдержишь мой рассказ. Он будет тяжелый, сама увидишь. Однажды я вышел — как странно это говорить. Потому что я буду сочинять то, чего не было, сочинять, моя дорогая, невозможное. Так вот, однажды я вышел, не сказав никому ни слова, лифт, как обычно, не работал. Я спустился по лестнице. Но это было нелегко, с костылями спускаться не просто. Я опираюсь на стену и спускаюсь. То, что я опираюсь на стену, помогает мне мало, это все равно как поднимаешься вверх, а тебе подают руку снизу. Ну как бы не было тяжко, трудно, но, ступенька за ступенькой, и я все-таки у дверей. Все удивительно. Вечер чуть жарковатый, в памяти моей птичий гам. Удивительно. Мир существует без меня, не беря меня в расчет. Все вокруг ново, потому что отделено от меня, но так, со стороны, я могу лучше видеть. И тут мной, как голод перед банкетом или перед ожиданием лакомого блюда, овладевает желание броситься в эту жизнь, которую я вижу перед собой. Добрый вечер, добрый вечер. Почему такая спешка, друг? Эй, малыш, как тебя зовут? Но я не произношу ни слова, только внимательно вглядываюсь во все вокруг, и это как бы своеобразная форма речи, а окружающие, без сомнения, слушают, поскольку с вниманием на меня смотрят. Кидают быстрые взгляды, проходят мимо — должно быть, думают: какой-то чужак на костылях, возможно, заблудился, а может, просит подаяния, и эта мысль меня удручает: «У вас нет ящичка для подаяния? Так кладите в карман, лишним не будет, жизнь очень трудная». Но эта мысль и трогает меня. Постепенно я узнаю улицу. Не потому, что я ее не знал. А потому, что она передо мной раскрывается в своей естественной сущности, которой иметь не должна. Узнавать — все равно что любить и не быть застигнутым врасплох, а я застигнут. Добрый день, добрый вечер, сколь необъятен мир. Он начинается от того дома с красивыми одеждами на манекенах, которые красивы благодаря манекенам, о чем свидетельствует сохранившееся до сих пор воображение. Рядом со мной неуверенно, но быстро семенит один старик, должно быть, не в порядке коробка скоростей, подумал я. В глубине улицы — ресторан, который бурно заявляет о себе здесь, снаружи, несущимися из него запахами кухни. И люди, люди, люди. У них должно быть будущее, но может, его и нет, и они создают его своим шевелением. Ведь для того, чтобы иметь будущее достаточно шевелиться, как политики, Моника, а настанет это будущее или нет, покажет будущее. И эти люди шевелятся, и даже очень. Меня волнуют возможные встречи — нет душевного равновесия. Но мне очень хочется спуститься к площади Эстефании и выйти на проспект, ведущий к нашему дому. Фасад выложен старыми изразцами, потрескавшимися от времени, а возможно, и во время землетрясения, и грязными от промышленных выхлопов. Может, хромая, я все-таки поднимусь на два марша и постучу в дверь, и Марсия скажет: