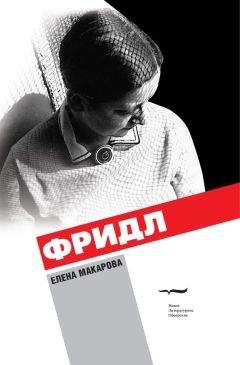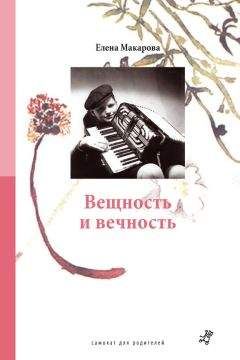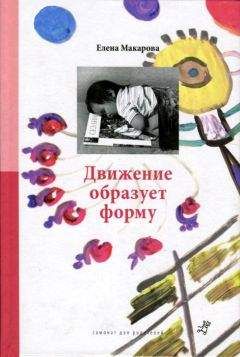Елена Макарова - Вечный сдвиг. Повести и рассказы
Базилик предлагает еще кофе. Но я встаю, пора.
– Приходите, и средство приносите, испытаем. Очень буду признателен, да. Не думайте, что я со всеми кофе распиваю. Это уж кто по сердцу придется. Разговор – это работа, порой полы вымыть легче, чем слово вымолвить.
Базилик провожает нас до голубых ворот. Спрашивает, где мы оставили машину.
– На горе.
– Могли бы сюда въехать, – сокрушается он, – в такую жару в гору подыматься!
Мы прощаемся.
Базилик уходит, и я спрашиваю, зачем было врать про машину.
– А так, – говорит, – чтоб не волновать человека. – Не приставай.
Действительно, что я пристала?!
Тяжело идти вверх. У него большие шаги, несколько моих на один. На развилке мы берем влево и оказываемся у птицефермы. Куры в клетках, вонь, помет кругом. Зачем мы свернули? Как мы вообще попали на эту дорогу?
Он медленно идет вдоль огромного зарешеченного курятника, пересчитывает их, что ли? Сейчас начнется! Он чуть не плачет! Кого ему теперь жаль – птиц, которых растят на убой, или монахов, страдающих от грязи и вони?
Я прижимаюсь к нему, он надевает на меня свою шляпу и идет вперед.
– Ты бы мог поселиться в монастыре? – говорю я ему в спину. Пожимает плечами.
– Но тебе же там хорошо!
– Не надо сдавать меня в интернат, я не маленький.
Лучше молчать. И мы всю дорогу молчим, уже не идем в обнимку, каждый сам по себе. Жара потихоньку спадает; ноги гудят, а мы никак не доберемся до шоссе.
Я плетусь за ним и не понимаю, что произошло, почему так тяжело на душе, может, из-за крутого подъема?
Иерусалим погружается во тьму, в долине вспыхивают огни, фары встречных машин слепят глаза. Может, так все сгустилось из-за сумерек… Вспоминаю цвет воды в бассейне с рыбками и улыбку Базилика, обращенную ко мне в тот момент, когда я вышла из пещеры.
Конец Субботы. Евреи в черных шляпах, женщины в париках, нарядные девочки в платьях и мальчики с пейсами, эфиопы, русские, марокканские старухи, солдаты и солдатки – словом, весь безмашинный народ собирается на автобусных остановках. Скоро пойдут автобусы. Может, и мне подождать? Или позвонить мужу, пусть заберет меня отсюда на машине, разом со всем этим покончить. Перестать таскаться за ним, перестать врать. Но ведь я ничего такого себе не позволяю. Мне просто интересно с ним. Он меня интригует.
До дому уже рукой подать. Я живу за центральной автостанцией.
– Куда ты потом пойдешь?
– Еще не решил. – Он смотрит на меня ласково, берет за руку, и мы входим в город.
На углу моей улицы он снимает с меня шляпу, чмокает в макушку и уходит.
* * *С тех пор я ищу его. Однажды уговорила свою школьную подругу доехать до монастыря, она подождет в машине наверху, а я сбегаю спрошу.
Я пробежала мимо коня в загоне, снова не увидела никакой птицефермы, даже испугалась, не перепутала ли дорогу, но стоило спуститься по крутой дорожке вниз, как показался голубой забор. Я долго стояла перед ним, собиралась с духом. Дернула за веревочку. Опять долго никто не открывал, потом я услышала из-за забора незнакомый голос. Я спросила про Базилика. Он уехал на Синай. Один? С каким-то русским. Я описала русского – высокий, худой, в фетровой шляпе. Да-да, с ним. Я спросила, можно ли продиктовать номер телефона, на случай, если русский объявится. Голос подтвердил, да-да. Записываю.
Вскоре он позвонил. Средство по снятию плесени нашло заказчика в Тель-Авиве. Он будет жить по месту плесени. Так он выразился, на иврите. Потом он долго молчал, видимо, пытаясь подобрать слова, и спросил о здоровье сына.
Откуда он звонил? Из автомата? Из чьей-то квартиры? Из монастыря? Лучше не знать, где он живет. Ведь у меня есть все, и муж и ребенок. Как-то я рассказала мужу про идею формовки, и он поднял меня на смех. С тех пор я стараюсь не думать ни про формовку, ни про плесень, а когда очень уж затоскую по нему, призываю на память одну картину, как он обозлился и как сбрасывал в овраг железяки.
Он возвышается над толпой, его нельзя не заметить. И когда мы с сыном ходим гулять в сторону автовокзала, я по привычке верчу головой. Сын капризничает, тянет меня за юбку, пойдем! Он не выносит многолюдья. Он хочет, чтобы я принадлежала ему одному, и я стараюсь быть хорошей матерью и ухожу с ним в тихий скверик, где он играет в песочнице, а я сижу и думаю, а что, если пойти к Базилику и поговорить с ним обо всем этом? Но что он мне скажет? Что не все в нашей воле, и с этим нужно смириться. Что жизнь – это марево, с нее черновой формы не снимешь.
Срочный ремонт
Зимой на Взморье много не наработаешь. Кому нужен сапожник в несезонное время?
Яков поставил чайник на электроплитку, достал с нижней полки единственную пару сапог. Вчера ее занес солидный мужчина в дубленке. Скорей всего, из Дома творчества писателей. Писателей в несезонное время видно. Летом не отличишь писателя от читателя, а зимой они выделяются. Чем? Спросите что-нибудь полегче! Яков повязал черный фартук, заварил чай и, прихлебывая из большой кружки, смотрел на сапоги. Фирменные, с узкой маленькой ступней, на тонком каблуке. Их носила, скажем прямо, не слишком аккуратная мамзель. Кожа на каблуке ободрана, носы поцарапаны, или она из столицы, где ходят друг другу по ногам?
Яков водрузил оба сапога на стойку, куда он обычно не позволял выкладывать из газет и грязных полиэтиленовых мешков обувь, – взял с верстака бархатную тряпку и утер сапогам нос. Из окна напротив ему был виден сувенирный магазин «Янтарь», – тоже в несезон не дает плана. Глухое время, февраль. С моря дует, сквозняк можно устроить и в своей квартире. 3а сквозняком едут только писатели. Спрячутся в стеклобетоне и пишут!
Стоит Якову подумать о писателях, душа закипает. Что он имеет против них? Он имеет против них зуб. Вот что он имеет.
Яков взглянул в зеркало, ощерился, показывая зеркалу золотые нижние коронки. Верхние зубы сохранились, а нижние пришлось укреплять золотым забором. Тюрьма забелила его огненную рыжину, цвет стал дрековский, желток с белком. Пальцы огрубели. Яков поднес ладони к лицу – не подушки стали, а камни с узорами, такими руками и коня не подкуешь. Яков надел сапог на колодку, прочел на корешке квитанции, припечатанной резиновым клеем к подметке: 12.00.
Сколько надо минут, чтобы подковать блоху? Когда-то ловкости его рук мог позавидовать и жонглер. Но и теперь Яков работал споро, в сезон по сорок набоек выдавал, а сейчас одна пара стоит и неохота браться. Разгону нет. Не то летом – клиент слово, ты ему десять. Писатели летят, как мухи на варенье.
Скрипнула дверь. Яков уткнулся в сапог. Он любил, когда клиент заставал его за делом.
– Тут мой муж… – раздался женский щебет над самым его ухом.
– Тут нет вашего мужа, – ответил Яков, не подымая головы. – Разве что спрятался за верстаком, – добавил он.
–… принес вчера сапоги.
Яков поднял глаза и теперь смотрел на женщину исподлобья.
Она не узнала его. Двадцать лет меняют человека, как ни крути, один день тюрьмы – считай за полжизни, а пять лет неволи за сколько считать? А, считай не считай, человека тюрьма не красит, от нее новые зубы не растут и улыбка к вывеске не клеится.
– Вот и они! – обрадовалась женщина.
– Уже готовы?
– Будут готовы, присядьте. Мудрость гласит, что в ногах правды нет, но правды нет и выше, не так ли?
Она села, расстегнула верхнюю пуговицу на рыжей шубе.
– У вас тут так уютно…
– Все для блага клиента. Могу предложить чашку хорошего чая, это у нас в прейскуранте.
– Спасибо, не откажусь.
Яков снял фартук, поставил чайник на плитку и вышел из-за стола.
– Майн эйхеле, майн фейгеле, майн брекеле…
– Неужели это ты?! – женщина встала, но Яков жестом велел ей сесть.
– Ты не на параде, и я – не маршал Рокоссовский. А это тот самый тип, которому я сдал тебя на углу Кришьян Барона и Таллинской? Писатель, значит?
– Откуда ты знаешь?
– Это записано на подметках твоих сапог.
Она не изменилась. Как была, так и осталась красавицей. Только сменила короткую юбочку, в которой выплясывала на еврейской свадьбе, на длинную. Шуба короткая, юбка длинная. Такая теперь мода.
– Сколько сахару?
– Я без сахара.
– Бережешь фигуру?
Наконец она улыбнулась. Яков поставил перед ней дымящуюся кружку. Обещал чашку, дал кружку, куда это годится! Не идет такой даме предлагать чай из кружки.
– Ты спешишь?
– Нет, нет, не беспокойся.
Он и не беспокоился. Беспокоилась теперь она. Ерзала в кресле, то одно колено обхватит рукой, то другое.– А мама жива?
– Жива. И часто тебя вспоминает.
– Я бы хотела повидать ее, если можно…
– Почему же нельзя? Хоть сейчас. А если ты надолго…
– Нет, мы вечером уезжаем.
– В столицу?
Она кивнула. Яков заметил несколько упругих серебряных волосков в черной копне. Ах, как развевались ее волосы, когда она танцевала на еврейской свадьбе, и так благоухали, что он еще долго пробуждался от одного воспоминания об этом проклятом запахе. Брови по-прежнему были черными, высоко поднятыми над глазами, и ему казалось, что она что-то хочет спросить, но она ни о чем не спрашивала.