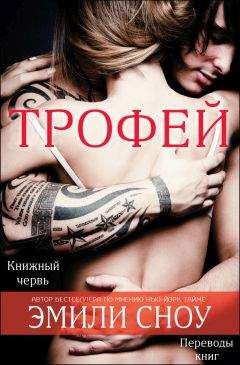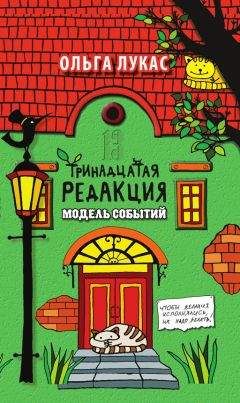Лукас Берфус - Сто дней
Вот так он говорил. Они посылали своих детей убивать и подставляли им для этого других детей — того же возраста и роста. Он выпил виски, и впервые в жизни я пожелал человеку смерти. Я сказал, что ему придется гореть в аду, и по глупости вообразил, что это произведет на него впечатление. Он был примерным христианином, по воскресеньям ходил к обедне. Скорее всего, так и будет, сказал он, но на что мне райские кущи? Я окажусь там один, хотя нет, наш президент тоже там, то есть из наших там были бы только мы двое — одни среди сплошь блаженных европейцев, а вот этого я бы не хотел. Понимаете меня, месье? Да и о чем мне говорить с нашим президентом? Я хочу быть там, где пребывает мой народ, где находятся мои соседи, мои двоюродные братья, мои дядья, моя жена. А это как раз — ад. Вот какая есть на этот счет поговорка: Бог-творец Имана днем покидает страну, но вечером возвращается к родным очагам. Так вот этот день здесь — он длится уже сто дней, и мы спрашиваем себя, когда же Бог вернется и наступит ли когда-нибудь опять вечер. Бог забыл нас, и до его возвращения мы должны работать. Работа эта тяжелая, но и к ней привыкаешь. Надо только следить за тем, чтобы при встрече с ними не смотреть им в глаза. Это — черные глаза, месье, и взгляд их — наказание для нас.
Я спросил его, знает ли он, который теперь час. Около трех, сказал он, ему пора уходить. Но я задержал его, сказал: надо бы выпить по последней, посидим еще полчасика — ведь мы больше никогда не увидимся. Он дал себя уговорить, я ощущал, как течет время, мой внутренний голос умолял его наклониться и поднять удостоверение, но он этого не делал, и вскоре мы услышали шаги по подъездной дорожке. Теонест вскочил со стула, зрачки его расширились, и тогда я понял, что он имел в виду, когда говорил о черных глазах. В него вселился страх умирающих. Я не знал, от скольких убитых унаследовал он этот страх, но по тому, как он стоял и озирался, можно было предположить, что количество их исчислялось десятками. Я постарался успокоить его, сказал, что это — мои друзья, они приносят мне еду, и мне казалось, будто я усмиряю обреченного на смерть зверя, чтобы он мог принять удар спокойно. Взгляни на пол, думал я, надеясь, что он это сделает. Мне ничего не стоило обратить его внимание на жалкий клочок бумаги, лежавший под стулом. Но я чувствовал что-то вроде силы судьбы, чувствовал, что мне нельзя ничему противодействовать, — более того, мне надо смириться со всем, что через минуту-другую неизбежно последует.
Винс вошел в сад, чуть ли не радостный, чуть ли не раскрывая объятия. За ним последовали его дружки. Один из них, щербатый, нес на спине четверть коровьей туши; скотина была явно только что забита, плоть кровоточила и влажно поблескивала. Едва Винс увидел садовника, как улыбка исчезла с его лица, однако на нем не появилась враждебность. Оно просто стало совершенно невыразительным, как неумелый рисунок ребенка. Парни опустили на траву свою ношу. Кто это? — спросил Винс, но, прежде чем я ответил, Теонест назвал себя, приблизился к Винсу; а я не мог объяснить себе, почему он до сих пор так и не сподобился поднять свое треклятое удостоверение. Теперь же он начал ощупывать внутренние карманы своей куртки, но ничего, естественно, не нашел. Винс смотрел на него молча, угнетая грозным, черным молчанием, а мой садовник бросал в него, как в бездонную чашу, свои объяснения, говоря, какого он рода и племени, называя имя отца, деревню, в которой родился. Уверял, что всегда был приверженцем республики. Покажи мне твое удостоверение, старик, сказал Винс. В том, как умудренный жизнью человек терял самообладание перед зеленым юнцом, было что-то непристойное, но я не ответил на заданный мне вопрос и вообще ничего не сказал, когда Теонест призвал меня в свидетели. Да и что я мог сказать? Кто он — высокорослый или низкорослый? Это значилось в удостоверении личности, а оно лежало под стулом. Садовник не спросил меня, не затерялось ли оно здесь где-нибудь, а тот, кто не спрашивает, не получает ответа. Должен ли я был его спасти? Причин для этого в те минуты я не видел. Спасти убийцу, который вот-вот станет жертвой убийц? Дикие звери рвали друг друга на части…
Вина… Меня не волновало, что фактически вина ложилась на меня. Я и без того давно обременил свою душу виной, но все еще не мог точно определить, в чем же она заключалась — в соучастии, в молчании, в том, что стоял не на той стороне?.. Но и не более того. Сказать об этом яснее было едва ли возможно. Просто что-то настойчиво требовало, чтобы я взял на себя такую вину, которая поддавалась бы измерению, нагрузил бы себя чем-то таким, что вызывало во мне раскаяние.
Однако я заблуждался. Я ни о чем не сожалею. Не сожалею о том, что они вывели садовника за ворота, что он не оказал при этом сопротивления. Парни вышли из сада с таким видом, будто всего лишь собирались выкурить сигарету. И пробыли за воротами не дольше того времени, которое для этого требовалось. Вернулись обратно одни, без Теонеста. Его смерть показалась мне заслуженным наказанием за то, что он убил Эрнесту. Вполне вероятно, что в лагере для беженцев он и без того погиб бы от холеры. Что же до меня, то я знаю, какой смертью предпочел бы умереть: мгновенной — от удара пангой, а не медленной — от той болезни, что высасывает из человека воду через все отверстия. А поскольку по большей части мы состоим из воды, то через каких-нибудь три дня нас уже и нет на этом свете. С какой стати я должен был бы спасти убийцу? Желая быть справедливым, я оказался виноватым, а когда обременил себя виной, почувствовал свою правоту.
Винс и его молодчики взяли меня с собой, они торопились, я успел лишь сунуть в карман документы — вот и все. Конечно, я задавался вопросом: а не проще ли остаться, подождать прихода повстанцев? Я почти не сомневался, что их планы лучше — лучше с общечеловеческой точки зрения. Они хотели покончить с геноцидом, дисциплина в их армии была жестче, вряд ли они будут вытворять то же самое, что вытворяли регулярные войска и ополченцы. Если судить о них, исходя из тех принципов, каких придерживался я сам, то они должны были оказаться на моей стороне.
И все же я решил уйти с бандитами — с теми, кто изо дня в день наполнял могилы, сгонял людей в церкви, бросал туда гранаты, после чего поджигал Божьи дома. Я присоединился к тем, кто вкладывал в руки своих детей мачете и натравливал их на других детей. Я решил принять сторону тех, кто устроил самую кровавую бойню после 1945 года, и не встал на сторону мятежников — не зная, чего мне лично от них ожидать. Я слышал об их суммарных процессах. Приходя в деревни, где были убиты все высокорослые, они иногда убивали всех оставшихся в живых: тот, кто не был мертв, был виновен; того, кто еще был жив, нужно было убить. Если человек был еще жив, то это служило доказательством его вины. А я был еще жив. Ополченцы же, рассуждал я, ничего мне не сделают, пока они мыслят более или менее здраво, то есть их мозг не затуманил алкоголь; пока не потребуют от меня чего-нибудь, например денег; а самое главное — пока не примут меня за бельгийца.
Поэтому я надел красную рубашку с большим белым крестом. Это сохраняло мне жизнь и в то же время причиняло в пути много неприятностей. О помощи просили больные и отчаявшиеся. Помню беззубую старуху — от нее разило запахом кала. Она требовала еды и лекарств, пристала ко мне как репей, отвязаться от нее стоило немалых усилий. И таких, как она, было много. То и дело приходилось объяснять разницу между белым крестом на красном фоне и красным крестом на белом, говорить, что я не принадлежу к отряду волонтеров и никого спасать не обязан. Кроме самого себя, добавлял я подчас. Умуцунгу в шкуре беженца — этого они представить себе не могли.
Ополченцы раздобыли где-то джип, но это облегчало передвижение только потому, что на капоте сидел блондин с винтовкой, готовый пристрелить каждого, кто попытался бы вскочить на подножку или дерзнул взобраться на крышу. За три дня мы не покрыли расстояния и в сто километров. Вся страна была на ногах. Паранойя, которую в течение четырех лет прививали населению, согнала всех с насиженных мест. Сотни тысяч покидали свои холмы, оставляя то, чего человек не в силах нести. По обе стороны дороги валялись стулья, оцинкованные кастрюли, самые разные предметы домашней утвари: все это было брошено, когда стало для беженцев обузой. То и дело попадались трупы людей, не выдержавших тягот бегства, а также убитых — они лежали совсем недалеко от обочин.
В тот час, когда солнце, похоже, не может решить, садиться ему или нет, и движется по своей орбите пошатываясь, будто после обильного возлияния, мы прибыли в Инеру. Это был первый лагерь за Букаву. Располагался он на пологом откосе, протянувшись километра на два по обеим сторонам от плавно уходящей вверх дороги. Занимая площадь примерно в шестьдесят гектаров, Инера был самым крупным из трех лагерей, хотя и не самым многолюдным. Здесь обитали изможденные, обессилевшие люди числом более пятидесяти тысяч, каждый располагался приблизительно на десяти квадратных метрах, и это можно было считать даже комфортом по сравнению с лагерем Ади-Киву, где на такой же площади приходилось ютиться троим. Палаточный город рассекала сеть немощеных дорожек, и с первого взгляда можно было судить о статусе тех или иных его жителей. Самые богатые входили в свои палатки, не наклоняя головы, самые бедные и те, у которых не хватало сил, чтобы разбить палатку, лежали на земле, завернувшись в ооновский брезент, на манер сомалийцев, как это они называли.