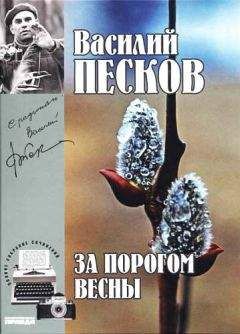Пер Энквист - Визит лейб-медика
А также Эневольд Бранд. Он был, по выражению злых языков, «няней короля». К этому добавлялись несколько любовниц для нижестоящих должностных лиц. Два столяра.
При отъезде по фигуре королевы с легкостью читалось, что она в положении. Весь двор только об этом и говорил. Никто не сомневался в том, кто отец.
Четыре экипажа уже стояли во дворе перед дворцом в то утро, когда граф Рантцау навестил Струэнсе, как он выразился, для «крайне необходимого разговора».
Сперва он спросил, предполагается ли, что он будет их сопровождать. Струэнсе, с любезным поклоном, ответил:
— Если тебе этого хочется.
— А ты хочешь, чтобы я вас сопровождал? — тут же последовал вопрос Рантцау, казавшегося каким-то странно напряженным и сдержанным. Они пристально смотрели друг на друга.
Ответа не последовало.
Рантцау посчитал, что правильно истолковал это молчание. Он спросил, «без обиняков», разумно ли будет проводить с такой маленькой компанией лето, а возможно, и осень, в Хиршхольме. Струэнсе поинтересовался, почему он об этом спрашивает. Рантцау ответил, что в стране неспокойно. Что поток декретов и реформ, изливавшийся теперь из-под руки Струэнсе (он, несомненно, сознательно употребил это выражение — «из-под руки Струэнсе», — поскольку прекрасно знал о душевном состоянии короля, и вообще не считал себя идиотом) — что эти реформы были полезны для страны. Что они часто были умными, замысленными во благо, и порой отвечали наивысшим принципам разума. Это совершенно точно. И, выражаясь кратко, — прекрасно сформулированными. Но, выражаясь столь же кратко, — многочисленными! Прямо-таки бесчисленными!
Страна была к этому не готова, и уж, во всяком случае, ее администрация! ergo это было смертельно опасным для самого Струэнсе и всех его друзей. Но, — продолжал Рантцау, не давая Струэнсе ни малейшей возможности себя прервать или ответить, — к чему такая упорная неосмотрительность! Разве не был этот поток реформ, эта воистину революционная волна, вздымающаяся над датским королевством, разве не была эта внезапная революция прекрасным основанием, или, во всяком случае, прекрасным тактическим основанием для Струэнсе и короля, но, прежде всего, для Струэнсе!!! чтобы держаться поближе к лагерю врагов.
Чтобы в какой-то степени присмотреться к своим врагам. То есть к мыслям и действиям вражеского войска.
Это было поразительным излиянием.
— В двух словах, разумно ли уезжать? — резюмировал он.
— Это было не в двух словах, — возразил Струэнсе. — И я не знаю, говорит ли это мой друг или враг.
— Это говорю я, — сказал Рантцау. — Друг. Возможно, единственный.
— Мой единственный друг, — сказал Струэнсе. — Мой единственный друг? Это звучит, как угрожающее предостережение.
В таком тоне это и было сказано. По форме и по сути своей враждебно. Последовало длительное молчание.
— Ты помнишь Альтону? — тихо спросил Струэнсе.
— Помню. Это было очень давно. Как мне кажется.
— Три года назад? Это так давно?
— Ты изменился, — холодно ответил Рантцау.
— Я не изменился, — сказал Струэнсе. — Изменился не я. В Альтоне мы, в основном, были единодушны. Я ведь тобой восхищался. Ты все читал. И ты многому меня научил. Я за это благодарен. Я ведь был тогда так молод.
— Но теперь ты стар и мудр. И, конечно же, никем не восхищаешься.
— Теперь я претворяю в жизнь.
— Претворяешь в жизнь?
— Да. Именно так. Не просто теоретизирую.
— Мне кажется, я слышу презрительную интонацию, — сказал Рантцау. — «Не просто теоретизирую».
— Если бы я знал, с кем ты, я бы ответил.
— Что-нибудь «настоящее». Никаких теорий. Никаких застольных спекуляций. И что же такое это последнее — настоящее?
Это был неприятный разговор. А экипажи ждали; Струэнсе медленно протянул руку к лежавшим на столе кипам бумаг, взял их, словно собираясь показать. Но не показал. Он лишь посмотрел на бумаги в своих руках, молча и без радости, и на какое-то мгновение ему показалось, что им овладевает безмерная печаль или всепоглощающая усталость.
— Я работал этой ночью, — сказал он.
— Да, говорят, ты интенсивно работаешь по ночам.
Он сделал вид, что не услышал инсинуации.
Он не мог быть с Рантцау откровенным. Он не мог сказать ему о нечистоплотности. Но кое-что из сказанного Рантцау привело его в дурное расположение духа. Возникло старое чувство неполноценности по сравнению с блистательными товарищами из ашебергского парка.
Молчаливый врач из Альтоны среди своих блистательных друзей. Тогда они, возможно, не понимали истинной причины его молчания.
Теперь они, быть может, поняли. Он был незаслуженно и необъяснимо превознесенным практиком! — на это-то и намекал Рантцау. Ты не способен. Ты молчал, потому что тебе было нечего сказать. Тебе следовало оставаться в Альтоне.
И это было правдой: ему иногда казалось, что он видит жизнь как некую серию точек, выстроенных на бумаге в ряд, как длинный перечень снабженных номерами заданий, который составил кто-то другой, кто-то другой!!! жизнь, пронумерованная по степени важности, и номера с первого по двенадцатый, как на циферблате, были там самыми важными, потом с тринадцатого по двадцать четвертый, как часы суток, и затем следовали номера с двадцать пятого по сотый в длинной циклической кривой со все более мелкими, но важными заданиями. И после каждого номера он должен был, по окончании работы, ставить двойную галочку, пациент вылечен. И когда жизнь закончится, будет составлен итоговый журнал, и наступит ясность. И он сможет пойти домой.
Изменение отмечено галочкой, задание выполнено, пациенты вылечены, потом — статистика и описание, обобщающее опыт.
Но где же здесь пациенты? Они пребывают снаружи, и он никогда с ними не встречался. Ему приходилось полагаться на теории, выдуманные кем-то другим: людьми блестящими, более начитанными, великими философами; на теории, которыми столь блистательно владели его друзья из хижины Руссо.
Пациенты датского общества, того, в котором ему теперь предстояло проводить революционные преобразования, — их ему приходилось себе воображать: в виде маленьких головок, которые он когда-то рисовал, когда писал диссертацию о вредных телесных движениях. Это были люди внутри механики. Ибо ведь должно же было быть возможно, всегда думал он, лежа по ночам без сна и ощущая этот чудовищный датский королевский дворец словно свинец на своей груди: возможно! возможно!!! разобраться в механике и овладеть ею, и увидеть людей.
Человек не был механизмом, но находился внутри механизма. В этом-то и был фокус. Овладеть механизмом. Тогда те лица, что он рисовал, благодарно и доброжелательно ему улыбнутся. Но трудным, действительно трудным, было то, что они, казалось, не были благодарны. Что маленькие, злые головки людей между точками, теми, что уже были отмечены галочками, — уже выполнены! решены!!! — что эти выглядывавшие лица были озлобленными, недоброжелательными и неблагодарными.
Они, прежде всего, не были его друзьями. Общество было механизмом, а эти лица — недоброжелательными. Нет, пока никакой ясности.
Он смотрел на своего последнего друга, Рантцау, сознавая, что тот, возможно, был врагом. Или, что было еще хуже, предателем. Да, Альтона действительно была очень далеко.
— «Настоящее», — медленно начал он, — это, на этой неделе, отмена закона о супружеской неверности, а также снижение избыточных пенсий чиновникам, запрет на пытки; далее я готовлю перевод таможенных пошлин с Эресунда из королевской казны в государственную, создание кассы для содержания незаконнорожденных детей, которых будут крестить согласно церковным церемониям, далее…
— А крепостное право? Или ты удовольствуешься обеспечением законодательной базы для морали?
Тут снова между параграфами возникло лицо Рантцау, подозрительно и недоброжелательно улыбающееся. Крепостное право ведь было главным! самым главным! относящимся к тем двадцати четырем, нет, к двенадцати! двенадцати!!! точкам, находившимся среди цифр на часах. Он предоставил мальчика на деревянной кобыле неумолимой смерти и побежал в сумерках за каретой; он испугался. В каком-то смысле он убежал от своего главного задания, от крепостного права. В карете он упрямо повторял про себя: главное, что он выжил.
И со всей решимостью мог. Издавать декреты. Снова мог. Со всей решимостью.
Теперь же он занимался лишь малым, моралью; он писал законы с целью улучшения морали, своими законами он создавал хорошего человека; нет, он думает неверно, все как раз наоборот. Нельзя было законодательно уничтожить человека злого. Ведь написал же он сам, что «нравы нельзя улучшить полицейскими законами».
Тем не менее — и он знал, что это было его слабостью, — он так надолго задержался с нравами, моралью, запретами и духовной свободой.