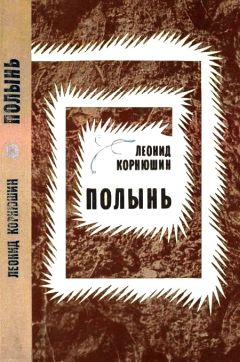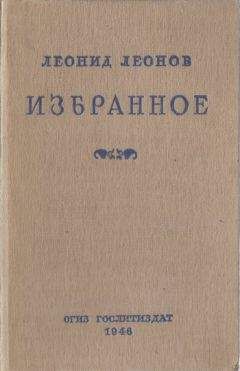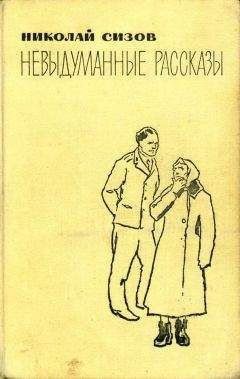Леонид Корнюшин - Полынь
За столами сидели счетные работники, а Зотова не было. Счетные перекидывались новостями о международном положении. Степан послушал о жизни далекой Африки и решил сходить на скотный, чтобы поглядеть Машиных коров.
На улице ему встретился Анисим Кругляков, он был навеселе — по случаю субботы успел выпить. Кругляков полез было обнимать Степана, но тот пригрозил костылем, и они без прений разошлись.
Дом у Круглякова стоял новый, под железом, в ряду с бывшими председателями. «Что-то не то… Зотов, видать, слабак на обе коленки, не в силах порядок навести», — сказал себе дед. На скотном было веселей, чем в остальной части деревни, здесь громыхали бидонами, разговаривали и смеялись доярки. Они заканчивали обеденную дойку. Цвинькало молоко о стенки ведер. Степан прошел к Машиной группе — ее доила Анисья. Половина коров — молодняк, еще в хорошем теле, и дед сильно порадовался:
«Ишь молоко свищет».
— Ты бы, Степан, лежал, холодно на улице, — сказала Анисья.
— Надоело… Сколько ж такая коровяка дает? — поинтересовался.
— Десять литров.
— Ого! — И подумал с гордостью: «Молодых коровенок, видать, Маня выходила».
Но у других коров было плохо с молоком — один-полтора литра, и Степан закряхтел. Он сел на ржаную солому в угол, и стал ему грезиться сон. Сон был скверный: за ним гонялся бык Мурзик, и в тот момент, как он настиг, Степан очнулся и увидел, что женщины, кончив доить, выносят в другое помещение бидоны с молоком.
«Быка и коров видеть к хворобе».
Он отозвал в сторону Анисью:
— Ты баба добрая. На случай чего… Маньке пособляй. Одна она. Родня-то у нас — свищи ветер. Около меня выросла!
— К чему говоришь, Степан Михеевич? — В голосе у нее прозвучала всегдашняя доброта и в то же время чувствовалась тревога.
— Мало ль…
Он тихо удалился с фермы с сознанием, что сделал необходимое, важное. Падал редкий, рыхлый снежок, по всему было видно: за околицей караулит весна. Дорога уже чернела, с дымящихся проталин несло духом ожившей земли.
Степану захотелось посидеть под зеленым дубом, послушать его вечный шепот и птиц, подремать. Но, видно, оттоптал траву, и лета ему не дождаться. «Перевидал свету — пора и совесть знать». Много на веку было, и он все помнит отчетливо. Вот идет он по зимней дороге в Москву, чтобы повидать самого Ленина. В Москве голодно, люди худые, но возбужденные, и Степан ходит среди них, и тут его настигает короткое слово: «Умер»… Синим дымом стлался мороз, хватал за уши и студил глотки людей, которые выкрикивали: «Ленин умер!» Он тогда чуть не замерз, вернулся в Нижние Погосты каким-то переломленным: одну половину самого себя, темную, оставил там, а другая возродилась к новой жизни. Как он ею налился, этой жизнью! Словно от хворости очнулся: делал все, что попадало под руку. Жизнь… Ушла, улетела. Старый. А давно ли молодость стояла? Жизнь — тальянка: отыграла…
«Надо пойти на гумно, — подумал Степан. — Кажись, года четыре я в нем не бывал».
Гумно он любил всегда за запах теплого, усыхающего жита и за то, что там тихо и никто не мешает думать.
Гумно прилепилось к глинистому косогору. Около перекосившихся дверей играла льняная мякина. «Еще, должно, летошнюю тресту сушат». Степан с трудом протиснулся внутрь, ощупкой нашел фонарь «летучая мышь» и зажег. На полатях в двуряд лежали снопы недосушенные. Он заложил в печь сырых осиновых дров, брызнул из жестянки керосину, и огонь захватил, загудел. Тени сгустились и нависли над ним. Степан прилег, положил голову на чьи-то забытые валенки и начал дремать прислушиваясь. Гудел огонь, сипела влажная осина, где-то поблизости скреблась мышь.
«Кажись, каюк, вроде помираю, — в последний раз подумал он, проваливаясь, — сапоги не дошил… Маша-то как будет?»
Судорога пронизала громоздкое костлявое тело деда, печь перевернулась вверх ногами, огонь померк, и он затих навсегда.
XXIДеда Степана хоронили с духовым оркестром. Гроб несли на руках через деревню к старому кладбищу на горе. Около могилы собралась толпа нижнепогостинцев.
Был яркий зимний полдень, добро, по-весеннему грело солнце. В припорошенном снегом ельнике, набирая высоту, глохли медные звуки оркестра, и тогда слышно было, как где-то глухо оседает снег и тихонько шепелявит, копится под настом вешняя вода.
Тимофей Зотов произнес короткую речь, закончил ее словами:
— Прощай, товарищ и боец. Много ты оставил своих трудов в колхозе. Мы соорудим тебе из камня памятник и напишем: «Он выше Гомера!» — И снова подумал про себя с укором: «О живом я так не говорил и даже не вспоминал о нем…»
Маша молча смотрела, как прыгали по крышке крашеного гроба мерзлые комья глины, их глухие дрожащие звуки пугали ее. И когда земля, увеличиваясь, скрыла последний кусочек красной доски, Маша горько заплакала. Она почувствовала одиночество. Она оставалась одна в этом грозном и прекрасном мире. Рядом стояли друзья, их было много, всегда помогут в беде, но не заменят родного. Вера и Анисья с обеих сторон поддерживали ее под локти — Анисья что-то шептала успокаивая.
Насыпали холмик и положили на него венок из цветной жести, который привез из города Павел, сын Степана. Это был высокий человек сорока лет, с интеллигентным широколобым лицом, в очках и в очень дорогом пальто. Павел не плакал и, видно, боялся, что глина измажет ему темно-коричневое пальто, он отряхивал его поминутно.
Народ стал расходиться. Маша отстала и пошла в деревню одна. Ей хотелось побыть одной и пожалеть своего деда. Дед был ей отцом, матерью, семьей, а теперь его не существовало. Она уже не плакала, а строго обдумывала свою жизнь, поджав по-бабьи губы. Слишком много событий произошло за последнее время — они оглушили ее своими сильными ударами. Раньше бегала на танцульки, ни о чем не думая, — плыла в утлой лодочке по своей жизни. Маша присела под дубом, прислонясь спиной к могучему стволу. Над головой у нее под ветром тихо гудели сучья.
Неподалеку, в овраге, с тяжким хрустом оседал снег.
Встав, Маша огляделась и прислушалась. Ей почудилось, что она услышала слабый отзвук голоса деда, который звал ее. Но это было лишь воображение слуха, и Маша побрела домой.
На дороге стоял Зотов, тяжелый, как каменный столб, — ждал ее.
— Нос-то особо не вешай. Кругом люди. — Хотел прибавить веское, да не нашел что, зашагал.
…Павел тем временем стоял посреди хаты и, брезгливо морщась, укладывал свои вещи в чемодан. Окна были раскрыты настежь, чтобы вышел весь дух покойника, и по хате вольно и зябко гулял ветер.
Маша присела на краешек табуретки.
— Вы уже уезжаете? — спросила она у него робко и испуганно: одной было боязно оставаться в хате.
Провела ладонью по лбу. «Неужели так сразу можно уехать? И что же это за люди!»
— Думаю поспеть на девятичасовой поезд. — Он, тщательно протерев никелированные стаканчики бритвенного прибора, уложил их в кожаную коробку.
— Остались бы хоть на сутки.
— Нет, нет. Работа у меня.
Захлопнув чемодан. Павел прошелся по хате, — заглянул на печку: там горбом топорщилась шуба отца, Степана, и лежали, аккуратно сложенные, его старые валенки. Отойдя к окну, побарабанил по стеклу пальцами. Маша, как всегда робевшая в присутствии незнакомых, близко посмотрела ему в лицо, не обнаружив в нем ни боли, ни огорчения. Лицо было бесстрастно замкнуто и ничего не внушало.
— Долго он болел? — скучным голосом спросил Павел, закуривая сигарету.
— Мало. Он умер хорошо.
— Он все на печи лежал?
— На печи. Иногда выходил, в полушубке.
— Это тот полушубок, что я прислал?
— Тот.
— А в колхозе живется легче, чем раньше?
— Легче.
— Ты где работаешь?
— Сейчас на ферме, а летом в полеводстве.
Павел посмотрел на часы и взял свой чемодан.
Он немного помедлил уходить.
— Ну, до свиданья. Приезжай к нам в гости, — сказал Павел нехотя. — А трудно будет — насовсем, жить в Донбасс. Устроим. Дыра тут.
— Спасибо.
Потер щеку, желая, видимо, что-то еще спросить, но вышел молча. Он исчез с чемоданом, в своем богатом пальто в слякотном поле, ни разу не оглянувшись на деревню и ту хату, где появился на свет, рос и откуда ушел отец в вечное забвение.
Пригорюнившись, Маша вернулась в избу, подмела веником пол, бережно повесила дедову шубу, накормила кур и побежала на ферму.
Вечерняя дойка была в разгаре.
— Павел уже уехал? — спросила Вера.
— Да.
— Хоть подарок какой привез?
— Не нужен мне его подарок!
Вера вдруг вся побелела.
— Да как же так?! Черт мордатый, отца похоронили, а он что камень, — она не устояла, пробежав по проходу, зацепила ногами доильное ведро, села на него, перевернутое вверх дном. — Да он же хуже Лешки! Морду мало набить подлецу.
Анисья сказала сердито: