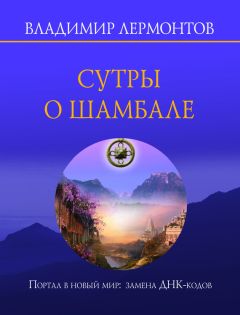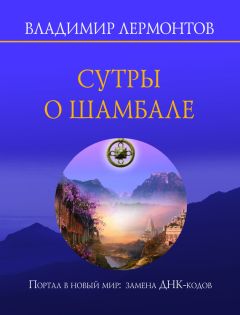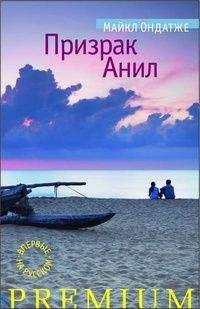Майкл Ондатже - Дивисадеро
Романами «Пес в Гартемпе»[78] и «Желтое платье» зачитывалась вся Франция. Однако никто, даже близкие, не подозревал, что Люсьен Сегура и автор историй о Романе связаны друг с другом через шлюху-популярность, которая великолепно знает хитросплетения издательского мира и способна ублажить всех разом. Бывало, в поединке рубака Роман цитировал Верлена или Пьера Ле Кра — иногда насмешливо, но чаще уважительно. Прогуливаясь по знаменитой Мюнхенской художественной галерее, он поглаживал холсты и напевал арию Дона Оттавио «К милой невесте».[79] И потому читатели, ждавшие от него фехтовального искусства, возвышенных чувств и морального отмщения, впитывали еще кое-что. Вероятно, странная одержимость искусством и поэзией объяснялась тем, что Роман был неграмотен. Стихов и песен он поднабрался от своего никчемного дружка Одноглазого Жака, вольнодумца и распутника, который перевязывал его рубленую рану (если Мари-Ньеж куда-то отлучилась) и тоже был искусен в маскировке: проникал во вражеский стан под видом придурковатого дофина, а то и зажиточной графини. В романах часто встречались сцены, в которых, сидя у костра, Жак и Роман спорили о бедности, чужеземных войнах, «черных картинах» Гойи, инцесте, торговле детьми, бальзаковском Вотрене и парижской банковской системе. Их приключения всегда были созвучны актуальным событиям.
Так все и шло до последней книги, в которой Роман совершает подвиги в Бретани, а тем временем Мари-Ньеж, сраженная эпидемией, умирает, но в ее последние часы рядом с ней только Жак. В деревенском доме он находит ее одну, охваченную лихорадкой. Она чуть дышит, в бреду постоянно зовет Романа. Хриплым шепотом она просит вызвать любимого, и старому доброму Жаку не остается ничего иного, как ее обмануть. Он ее баюкает, меняет промокшие от пота простыни, с ложечки кормит. Мари-Ньеж впадает в забытье, и тогда Жак облачается в одежду Романа, обрезает и темнит свои длинные волосы. Затем шумно входит в комнату и, подражая голосу Романа, будит несчастную; в мороке той кажется, что она видит любимого. Мари-Ньеж просит его лечь рядом, и старый кретин, для которого нет никого дороже этих двух людей, забирается в постель к деревенской королеве, с кем долгие годы был неразлучен во всех авантюрах. В первых книгах, таких как «Девушка на лошади» и «Вздох баптистки», на бивуаках, разбитых на берегах Ардеша и Луары, он спал по одну сторону костра, а Мари-Ньеж и Роман — по другую.
Она что-то шепчет, гладит его волосы, вглядывается в его утомленное, ласковое лицо. В полутьме оно кажется ей ликом Богородицы. Он шепчет в ответ, вспоминая былые времена, когда солнечным полднем они втроем ехали через дубраву, и шелест ветвей был подобен дождю, он вспоминает купанье в реке, говорит о своей любви… Вот так он сопровождает ее в вечный сон. Он целует ее в губы и всю ночь лежит рядом с ней. В первых крупицах рассвета он видит, что лицо ее застыло, точно на портрете, — горячка ее сожрала и покинула ее душу. Губы ее в белом налете, которого прежде он не заметил. В комнате стало светлее; он разжимает ее рот и видит язык в белых крапинах язв. Дифтерит вымел округу, убивая детей и тех, кто за ними ухаживал. Из Бретани возвращается Роман, которого ждет безысходная истина: хворь уничтожила двух самых дорогих ему людей. Убийцей стала не война, не жажда денег или власти, от чего легко прогнить, но маленькая горловая пленка.
Читатели были ошарашены таким завершением приключений Романа, судьба которого осталась неизвестной. Он сгинул с последних страниц «Белизны», когда Люсьен поставил точку, сидя за соседским столом. Семь приключений Романа закончились. В этих историях Люсьен рассказал все, что знал и помнил о Мари-Ньеж: как скрипит ее тачка, как она разжигает очаг, как зевает, как поведала о заросшей чертополохом канаве. Теперь она была в нем.
Люсьен открыл новый счет на скромную сумму. Взял кое-какие тетради, забрался в повозку, очень похожую на ту, в какой на корридах Вик-Фезансака мать искала его пропавшего отца, и исчез, не имея в кармане даже горчичного зерна. Писать он больше не будет.
Полгода спустя он использовал одну тетрадь, чтобы вести счет карточной игры с мальчиком по имени Рафаэль. В архиве библиотеки Беркли сохранились три его тетради (одна чистая). В них детской рукой начерчен план посадок в огороде. «Вы садовник?» — некогда спросил предсказатель. Еще есть схема усадьбы, на которой изображены дом, озерцо и платановая аллея. Другой рукой сделан рисунок гнезда для насекомых, сооруженного из кукурузного початка.
Однажды, когда они сидели в последнем саду Люсьена, мальчик обмолвился, что читает приключения Романа, но старик промолчал. Потом взял у него книгу, интересуясь, что сын Астольфа использует как закладку, и сказал, что слышал о повествователе отмщений и побегов, любви и приключений, но романов его не читал.
«Искусство дано нам для того, — говорит Ницше, — чтобы мы не погибли от правды». Безжалостная правда случая нескончаема, история моей связи с Купом и жизненные мытарства моей сестры для меня бесконечны. Каждый раз, когда глубокой ночью вдруг зазвонит телефон, я хватаю трубку и жду, что сквозь шорохи и писки, предполагающие трансатлантический вызов, услышу тяжелый вздох, после которого объявится Клэр. Для нее я буду почти незнакомкой, образом с фотографии.
Каждый вечер перед ужином отец совершал обход нашей фермы, заканчивая его на дальнем холме: выйдя из тени деревьев, в закатных лучах он спускался к дому. Он не знал, что за ним всегда подглядывают трое ребятишек. Однажды позади него выскочила и зашныряла по краю подлеска лисица; отец, неторопливо шагавший с холма, ее не видел. Клэр первой заметила лису и пихнула нас с Купом. Зверек пружинисто метался взад-вперед, изредка поглядывая на человека. Отец что-то почувствовал и остановился. Оглянувшись, он стал медленно пятиться, не спуская глаз с лисицы, которая, словно в насмешку, шастала туда-сюда, туда-сюда, постоянно меняя курсы.
Калитка памяти открывается в обе стороны, отзвук эха летит повсюду. Время можно закольцевать. Ночью нас преследуют абзац или сцена из другой эпохи, слова незнакомца. Громкие хлопки разноцветного флага переносят меня в тот внезапный буран. А сложенная карта перемещает в иные края. Повсюду я вижу Купа, сестру и отца (я их представляю повсюду), как и они, наверное, тревожатся, что меня нет рядом. Не знаю. Мы связаны тоской по тому, что не случилось.
Жаркий день, Люсьен Сегура и Рафаэль последний раз вместе. Мальчик приносит хлеб. Разломав буханку, они съедают ее с луковицей или какой-то зеленью. Если чувствует жажду, Люсьен пьет из озерца, горстью зачерпывая воду. Вот таким я его помню, говорит Рафаэль.
Наверное, Люсьен спустился в выемку, некогда бывшую прудом, и сел за синий стол — единственные предмет мебели, который он взял из Марсейяна. Как-то раз, сочиняя жаркий поединок на шпагах, он вдруг задумался о размерах стола, за которым работал. Измерение проводилось рукой. Две длины от локтя до кончиков пальцев и еще две — от запястья до пальцев. Выходило, длина стола чуть больше метра. Ширина — около метра. Две сосновые доски, между ними узкая щелка. Во время работы стол выпадал из поля зрения, лишь кусочек крышки маячил под тетрадью. В нем, сколоченном шестью гвоздями, нравились и цвет, и удобная высота; он — словно зеркало, в котором отыщешь то, что нужно. Неизменный товарищ.
Астольфов мальчишка сидит напротив и скалится, жадный до всего на свете. Наверное, в юности Люсьен был таким же. Точно поджарая расчесанная гончая, что, полная надежд, свесила язык и жарко дышит. Мальчишка являлся даже в дождь. Из окна спальни Люсьен видел, как под кроной дуба он прячется от струй. Любопытно, чем ему запомнятся их полуденные встречи? Карточными играми или обрывочными размышлениями старика, похожими на недосказанные тайны? Или тем, как он добродушно жмурится, рукой затеняя здоровый глаз от безжалостного солнца? Хоть осколком останется он в мальчишеской памяти?
Вот Рафаэль приближается, но затем сворачивает к огороду.
Нет, иди сюда, зовет старик. Мальчик садится напротив. Воспоминания исчезают в стиснутом кулаке Люсьена.
Потом даже эти друзья его покинули.
С двумя лошадьми, которых на что-то выменял, отец Рафаэля неспешно шагал по платановой аллее. (Вообще-то, предметом торга стал один из павлинов Люсьена Сегуры, на которых давно заглядывался соседний фермер. Пропажу птицы, непредсказуемой в своих скитаниях, еще не обнаружили — может, решила прогуляться за теплой послегрозовой волной. Старый ворюга полагал, что лишение владельца его рыбины, дичи и еще не прирученной собаки — вовсе не кража, поскольку живность, даже будучи далеко увезенной, всегда имеет шанс самостоятельно вернуться домой.) Папаша прошагал мимо увитой сумахом усадьбы, беспечно насвистывая, тогда как в четыре утра покидал ее иначе — тайком, пряча под длинным пальто сопротивляющегося павлина размером с теленка.