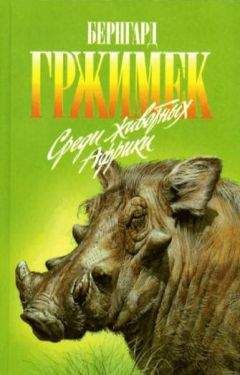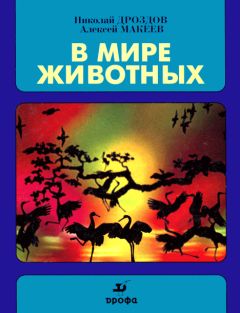Александр Проханов - Шестьсот лет после битвы
— Взвод! Ко мне!
Выбрал десяток солдат. Построил в цепь, оглядел. Повел скорым шуршащим шагом вдоль знойного склона, огибая гору, в распадок. И Вагапов, оглядываясь, мимо близкого, дышащего, серого под панамой лица Еремина, видел: колонна распадается, грузовики осторожно выруливают, въезжают во дворы, на белое хлебное поле, покидают дорогу. По кишлаку ведут перевязанных с забинтованными головами. И мерно, глухо, ослабленная гранитным уступом, ухает танковая пушка.
Они шли плотной гибкой цепочкой — вещмешки, подсумки, фляги с водой, автоматы. Огибали гору, ожидая увидеть обратный пологий склон, спускавшихся, покидавших позицию минометчиков. И сразу, отрезая отступление, бить из многих стволов, истребляя душманский расчет. Но пологого склона не было. Сразу за белесой горой открывалась другая, выраставшая из нее, бледно-розовая, охваченная тусклым розовым жаром. Изменив маршрут, они огибали ее, трассируя склон, хрустящий, запекшийся, без единой былинки, словно шли по остывающей лаве. Задыхались, потные, горячие, торопливые. Готовились к бою, к падению на колючую землю и сверху, настигая противника длинными очередями, — истреблять засаду. Но розовая гора кончилась, и за ней вознеслась зеленая. Но зелень была не от трав, а от горных проступавших пород — неживая минеральная зелень.
— Не могу больше… — задыхался Еремин. — Не могу…
Он отставал, пропуская вперед других, и солдаты, жарко, громко дыша, обгоняли его, вращая молча белками. Вагапов отставал вместе с ним, медленно сдвигаясь к хвосту, отдаляясь от головы, поблескивал черным коротким автоматом. Взмахивал им, словно подгребал к себе остальных солдат.
— Не могу больше!.. Пить!.. — тянулся к фляге Еремин, взглядывая умоляюще на Вагапова.
— Нет, погоди, не пей! — запрещал ему Вагапов. — Совсем упадешь!.. Не пей, говорю…
— Я и так упаду! — задыхался Еремин. Его лицо под панамой было белым. Рот, не закрываясь, дышал. Губы, глотавшие сухой, жаркий воздух, казались костяными.
— Ты о воде-то не думай, — учил Вагапов, пропуская мимо себя торопящихся в гору солдат. — Ты о другом!.. О матери думай… О девушке, если есть… О беседке своей, которую камушками цветными выкладываешь… А о воде не думай! Выпьешь глоток — запалишься… Перетерпи, перемучься!
Они были теперь в самом хвосте цепи. Расстояние между последним солдатом и ими увеличивалось. Вагапов, замыкая движение, смотрел, как вяло, слабо упираются в гору ботинки Еремина, как гора не пускает его, хватает за ноги, втягивает в себя. Еремин борется с притяжением горы, топчется почти на одном месте. Вот-вот останется, и гора увлечет его в свою глубину, сомкнет над ним свой горячий свод.
— Ты склон трассируешь, вниз не сползай!.. Набрал высоту— и держи! Ногам охота вниз идти, а ты не пускай!.. Не теряй высоту! — учил Вагапов. Сам задыхался, вбирал ртом горячий воздух, не охлаждавший легких. Выбрасывал из ноздрей две шумные раскаленные струи.
Он жалел Еремина, этого щуплого новобранца, впервые попавшего в горы, в разреженный воздух хребта. Помогал ему, вдохновлял, хотел поделиться силами. И пусть было ему самому тяжело и его самого тянула гора в гранитную сердцевину. Пусть шли они в бой отягченные гранатами, набитыми до отказа рожками, готовыми к стрельбе автоматами, в нем, Баталове, оставалось место для сострадания и заботы, для неясной из нежности и боли мечты: после службы они станут дружить с Ереминым, не разлучатся, не потеряют друг друга из вида, а Еремин приедет к нему в деревню, познакомится с матерью, братом, и он, Вагапов, покажет ему все родные места — речку с деревянным мостом, ключик в овраге, остатки старинной барской усадьбы, где аллеи огромных лип и берез, белокаменный щербатый фундамент, заросший лопухами и одуванчиками, на которых пасутся деревенские козы. А он, Вагапов, приедет к Еремину в Ленинград, поживет в его городской квартире, среди дорогих красивых вещей, познакомится с его родными, обходительными, приветливыми. Они станут гулять с Ереминым по городу, по музеям и паркам, и Еремин в одном из парков покажет свою беседку, белую, с колоннами, с разноцветным из наборных камушков полом. Так думал он, замыкая цепь, ставя подошвы на горячую гору, видя, как трепыхается вещмешок на худых плечах Еремина, как сгибается тот под тяжестью автомата, фляги, боекомплекта.
— Ты думай о беседке своей, тебе легче станет!
Они одолели гору, и за ней был легкий спуск в седловину, за которой снова начинался подъем.
Лейтенант собрал солдат, подождал отставших Еремина и Вагапова. Жаркий, блестящий, потный, с яростными, бегающими по вершинам глазами, с черными мокрыми подмышками.
— Ну что вы там скисли? — накинулся он на обоих. — Еремин, что ты тянешься, как сопля?.. Идут же в армию доходяги!.. Ты стометровку бегал? На перекладине подтягивался? Посмотри, на кого ты похож! Людей держишь!.. А ты, Вагапов, подгоняй его хорошенько!
Он был раздражен. Проделав бросок по горам, не нашел противника. Можно было повернуть обратно, возвращаться в кишлак. Или продолжить поиск, спуститься в ложбину.
— Внимание всем! — принял решение. — Идем вперед! Пойдем перекатом!.. Ты, ты и ты! — Он ткнул пальцем в троих, в том числе в Еремина и Вагапова. — Останьтесь здесь, прикроете!.. Следите за нашим продвижением, пока мы не займем высоту, вон ту!.. Тогда вы идите, а мы прикроем! Понятно?.. Ложись! — приказал он прикрывающей группе. — Остальные за мной! — И ловко, осыпая камушки, кинулся вниз, утягивая цепочку солдат. А трое остались, прижимаясь животами к вершине, расставив оружие во все стороны, разведя его по пустым окрестным вершинам.
— Ну вот, отдыхай! — подбадривал Вагапов Еремина, который лежал без сил, вялый, словно лишенный мускулов. Не видя, слепо, не слушая Вагапова, нащупал флягу. Отвинтил. Прижал к губам. Жадно, долго пил, глотал, двигал худым, острым горлом, роняя мелкие капли, наслаждаясь, оживая, исходя мгновенным мелким бисером.
— Зря! — осуждая, сказал Вагапов.
— Вот теперь хорошо! — виновато улыбнулся Еремин.
Они лежали, наблюдая, как остальные солдаты, уменьшаясь, спустились в низину. Сливались своей пропыленной формой с бесцветным, без теней, без оттенков, камнем. И только вспыхивали иногда металлические детали оружия. Цепь пересекла седловину, замедляя движение. Потянулась в гору, скапливалась на противоположной вершине — чуть заметные подвижные бусины на кромке шершавой горы.
— Можно идти!.. Вперед! — Вагапов, сержант, старший из всех троих, приказал и поднялся. Неся автоматы, они устремились вниз, зная, что с соседней вершины за ними следят, защищают, прикрывают их продвижение.
Третий из них, маленький киргиз, ловко, извилисто петляя по склону, обогнал их на спуске. Увеличил разрыв у подножия и уже карабкался на противоположную гору, юркий, легкий, как ящерица, в то время как Вагапов то и дело натыкался на спину Еремина, начинавшего одолевать подъем.
Вода, выпитая Ереминым, выступила серыми пятнами на одежде. Лицо ярко блестело, словно таяло. Становилось все меньше и меньше, и на этом лице страдали, сжимались, плакали глаза, и рот, оскалясь, часто, мелко дышал.
— Не могу!.. Минутку! — умолял он.
— Давай-давай! Напрягайся! — подталкивал его сзади Вагапов. — А ну, давай сюда! — И он сдернул с плеч Еремина вещмешок, в котором звякнули консервы сухого пайка. — Давай, давай!
Мешок был тяжелый. Он почувствовал прибавление тяжести в этом разреженном горном воздухе. Услышал, как сильнее забилось сердце, как натянулись усталые мышцы. Но одновременно увидел, какое облегчение испытал Еремин, как распрямилась его спина, стал виден из-под панамы мокрый белесый затылок.
Медленно, с остановками они достигли вершины. И первое, что увидели, — было злое глазастое лицо лейтенанта. Язвительный, резкий, он притоптывал ботинком с желтым хлорвиниловым шнурком. Накинулся на Еремина:
— Почему плетешься? Все тебя ждем! Один вахлак всех держит!.. На себе тебя тащить или как?.. Черт побери!
Так велико было его раздражение и презрение к Еремину, так не терпелось ему кинуться дальше в преследование, в следующую низину, не столь безжизненную, как предыдущая, — она слегка зеленела, и на ней светлели и петляли протоптанные стадами тропинки, — что взводный сделал движение ногой. не ударил, а выразил свое негодование. Но ботинок ткнул носком камень, на котором стоял Еремин. Камень выскочил, и Еремин, не имея сил удержаться, упал плоско, длинно, даже не вытянув руки, не защищаясь в падении. Стукнулся головой о землю и замер, потеряв сознание. Панама его отлетела, и он лежал со стриженой макушкой, закрыв глаза, растворив слабо губы.
— За что, товарищ лейтенант? — шагнул на взводного Вагапов, чувствуя, как взбухло горло и глаза начинает заливать красный безудержный гнев. Боролся с ним, не пускал, страшился его в себе. Ненавидел лейтенанта с его выпученными яростными глазами, сильным, тренированным телом. — За что ударили?