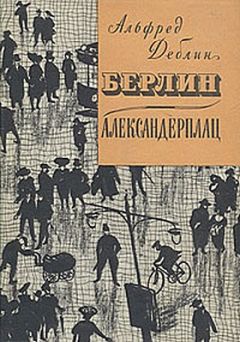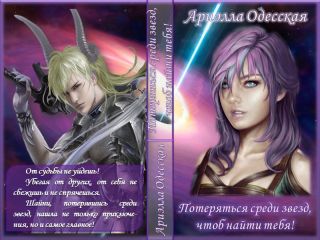Альфред Дёблин - Берлин-Александерплац
— Да, — подтвердил Франц, — скот — штука тонкая, скот, он обхождения требует. Тут, брат, особая статья. А кто в этом ничего не смыслит, тому лучше и не браться.
Все были потрясены. Выпили, посокрушались по поводу зря загубленных денег; чего только не бывает на свете! Вон в Америке даже пшеницу гноят, урожаи на корню губят — всяко случается!
— Это еще что, — заявил черноглазый из Хоппегартена, — я вам про Австралию еще и не такое рассказать могу. Об этом публика ничего не знает, в газетах не пишут, а почему — неизвестно. Верно, иммигрантов не хотят отпугивать. Например, есть там ящерицы, прямо допотопные, в несколько метров длиною, этих ящериц даже в зоологическом саду не показывают, потому что англичане не разрешают. Наши-то матросы с одного корабля поймали такую, стали было показывать в Гамбурге. Куда там — моментально от начальства вышло запрещение. Что ж, ничего не попишешь. А живут эти ящерицы на болотах в трясине, и никто не знает, чем они питаются. Однажды в такую трясину несколько грузовиков провалилось; так их даже вытаскивать не стали. Понял? Никто и подступиться не рискнул. Вот как!
— Дела! — заметил Мекк. — Ну, а если газом перетравить?
Тот задумался.
— Что ж, можно бы попытаться. Попытка не пытка.
С этим все согласились.
К Мекку подсел, облокотившись на его стул, один из пожилых мужчин, коротенький, приземистый толстяк с красным лицом и выпученными, как у рака, бегающими глазами. Другие слегка потеснились, чтобы дать ему место. И начали они с Мекком шептаться. Человек этот был в начищенных до блеска высоких сапогах, через руку у него был перекинут брезентовый пыльник, — он походил на скотопромышленника. Франц разговаривал через стол с парнем из Хоппегартена, который ему очень понравился. Вдруг Мекк тронул его за плечо, кивнул ему, и они встали: за ними поднялся, добродушно посмеиваясь, и приземистый скотопромышленник. Втроем они отошли в сторонку к железной печке. Франц думал, что речь пойдет о тех двух скотопромышленниках и их судебном деле. Дудки, — он о них и слышать не хотел! Но разговор оказался пустяковый. Приземистый человечек хотел только представиться и узнать, чем он, Франц, промышляет. Франц вместо ответа хлопнул по сумке с газетами. А что, не хотел ли бы он, при случае, заняться фруктами? Толстяка звали Пумс — он, оказывается, торгует фруктами и ищет продавцов вразвоз. Франц только плечами пожал.
— Смотря какой заработок!
Они вернулись к столику. Франц подумал, что толстяк этот больно уж бойкий, ишь как тараторит; про таких говорят — пользоваться осторожно, перед употреблением взбалтывать.
Разговором тем временем снова завладел парень из Хоппегартена. Говорили об Америке; черноглазый снял котелок, положил его на колени.
— Ну вот, женился тот человек в Америке и в ус не дует. А жена возьми да окажись негритянка. "Что? — говорит он. — Ты негритянка?" И трах! — вышвырнул ее вон. Потом ей пришлось раздеться перед судом. Осталась в одних трусиках. Сперва, конечно, не хотела, стеснялась, ну, а потом все равно пришлось. Большая важность, подумаешь? А кожа у нее была совсем белая.
Потому как она метиска. А муж свое — негритянка, и все тут. Почему? Да потому что на ногтях у нее не белые, а коричневатые лунки. Стало быть — метиска.
— Ну, а чего она требовала? Развода?
— Нет, возмещения убытков. Ведь он же на ней женился, это раз, а затем она, верно, место из-за него потеряла. К тому же на разведенной не всякий женится. А была она белая как снег и красавица писаная. Ну, может быть, предки ее были негры, когда-нибудь там в семнадцатом веке! Так что — плати убытки!
У стойки поднялся скандал. Хозяйка визгливо кричала на какого-то разбушевавшегося шофера. Тот огрызался:
— Что я дурак, что ли? Стану я закуску портить! Торговец фруктами крикнул:
— Тише там!
На окрик шофер оглянулся и грозно уставился на толстяка, но тот улыбнулся ему самым приветливым образом, и у стойки воцарилась зловещая тишина. Мекк шепнул Францу:
— Наши скотопромышленники сегодня не придут. Наверное, все уж уладили. Нашли, наверно, свидетелей. Взгляни-ка лучше вон на того желтолицего, он здесь главный воротила.
К этому желтолицему Франц весь вечер присматривался. Он с первого взгляда симпатией к нему воспылал. Это был худощавый парень в поношенной солдатской шинели (уж не коммунист ли?), с длинным желтоватым лицом; бросались в глаза резкие глубокие поперечные морщины на его высоком лбу. Такие же глубокие, словно ножом прорезанные, складки пролегли у него и от носа ко рту. А ведь на вид ему чуть побольше тридцати. На его нос Франц сразу обратил внимание — короткий, приплюснутый, не нос, а нюхалка. Голову он низко опустил на грудь к левой руке, в которой была зажата дымившаяся трубка. Черные волосы подстрижены ежиком. А когда он пошел к стойке, волоча ноги, будто они прилипали к полу, Франц заметил, что на ногах у него худые желтые ботинки и толстые серые носки, спадающие гармошкой.
Видать, чахоточный. Ему бы в лечебницу надо, в Белиц или еще куда, а он по пивным слоняется. Любопытно, чем он живет? Тем временем этот человек приплелся обратно, с трубкой во рту, с чашкой кофе в одной руке и стаканом лимонада в другой. В стакане торчала большая ложка. Он снова уселся за столик и долго сидел, задумчиво прихлебывая то кофе, то лимонад. Франц не сводил с него глаз. И до чего же у него взгляд грустный. Верно, и ему пришлось в тюрьме побывать; смотрит на меня сейчас и про меня, пожалуй, то же самое думает. Верно, милый, верно, сидели и мы четыре года в Тегеле, день в день. Что же, будем знакомы?
Больше в этот вечер ничего не случилось. Но Франц стал с тех пор часто заглядывать на Пренцлауерштрассе. Он подружился с человеком в старой солдатской шинели, прилепился к нему душой. Славный был малый, что и говорить, только уж больно заикался, — бывало много времени пройдет, пока он что-нибудь из себя выдавит, и тогда у него глаза такие большие, умоляющие. А вот сидеть он еще не сидел, только раз как-то был замешан в одном политическом деле: собирались они взорвать газовый завод, да кто-то их выдал. Впрочем, ему самому удалось вовремя скрыться.
— А что ты теперь делаешь?
— Торгую фруктами и чем придется. Другим помогаю. Нет работы, хожу отмечаться на биржу труда.
В темную компанию попал Франц Биберкопф. Странное дело, его новые друзья почти все торговали фруктами и не без выгоды для себя, а краснорожий толстяк был у них за оптовика, снабжал их товаром.
Франц держался от них подальше, да и они от него. Никак он не мог понять, в чем тут штука. Нет, говорил он себе, лучше уж торговать газетами!
БОЙКАЯ ТОРГОВЛЯ ЖИВЫМ ТОВАРОМОднажды вечером Рейнхольд — так звали парня в солдатской шинели — разговорился более обыкновенного, верней сказать меньше заикался; речь шла о женщинах, и он ругал их на чем свет стоит. Франц хохотал до упаду: смотри, пожалуйста, он баб всерьез принимает! Вот бы не подумал про него; значит, у него тоже винтика не хватает, впрочем, они здесь все чокнутые — у одного то, у другого другое. Вот и Рейнхольд тоже — влюбился, понимаешь, в жену возчика с пивоваренного завода, и та сбежала от мужа ради него. Да беда в том, что Рейнхольду она уже надоела.
Франц сопел от удовольствия: до чего же забавный парень!
— Да пошли ты ее к черту!
Тот, заикаясь и делая страшные глаза, с трудом выговорил:
— Легко сказать! Женщины таких вещей не понимают, хоть повестки им пиши.
— А ты что же писал, Рейнхольд?
Рейнхольд плюнул и, заикаясь и корчась, выдавил:
— Чего там писал, сто раз говорил. А она уперлась: не понимаю, мол, и все тут, а ты, говорит, с ума спятил. Нет, этого ей, конечно, не понять. Что ж мне, держать ее у себя, пока не сдохну?
— Придется!
— Вот и она так говорит.
Франц расхохотался. Рейнхольд начал злиться.
— Да брось ты дурака валять.
Нет, у Франца это никак не укладывалось в голове. Отчаянный парень, газовый завод чуть не взорвал, а тут нюни распустил.
— Слушай, Франц, возьми ты ее себе.
— Да на что она мне?
— Ну вот, ты ее и бросишь.
Тут Франц пришел в полный восторг.
— Ладно уж, для тебя, так и быть, сделаю, можешь на меня положиться. Тебе, Рейнхольд, впору соску сосать, а не с бабами путаться!
— А ты сперва сам попробуй, а потом говори. — Расстались, довольные друг другом.
А на следующий день после обеда Френце — жена возчика — явилась собственной персоной к Францу Биберкопфу. Как услышал он, что ее Френце зовут, сразу обрадовался; они, значит, как раз под пару: она — Френце, он — Франц. Она принесла ему от Рейнхольда пару рабочих ботинок на толстой подошве. Усмехнулся Франц про себя: вот они, иудины сребреники! И сама ведь принесла, Френце-то, — потеха! Скотина он все же, этот Рейнхольд. "А впрочем, — подумал еще Франц, — цена сходная, больше тут не запросишь".