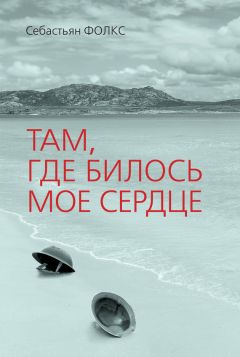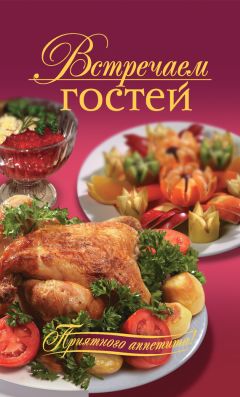Себастьян Фолкс - Там, где билось мое сердце
Я проснулся раньше Луизы. Захватив пасту и зубную щетку (значит, кто-то их принес), тихо спустился в коридор, ведущий к ванной комнате. Вечером голосов и шагов других постояльцев я не слышал. А сейчас было около шести, только начало светать. Побриться было нечем, и, помню, я очень надеялся, что на обратном пути не наткнусь на кого-то из знакомых. Помылся холодной водой.
Тихонечко вернулся в номер и лег. Луиза еще спала, и при свете, пробившемся сквозь ставни, я впервые увидел россыпь темных веснушек у нее между лопатками. Захотелось провести по ним пальцем, по всем позвонкам. Бледная кожа туго обтягивала мышцы, ни намека на жировую прослойку. Луиза лежала на боку, край белой простынки примялся, полностью открыв одну грудь. Луиза выставила вперед колено, и там, где сходились оба бедра, темнела тень.
Мне очень хотелось разбудить Луизу поцелуем. И, словно почувствовав жар моего взгляда, она перевернулась на спину, распахнула огромные черные глаза и улыбнулась.
В следующую субботу мы с ней снова были в Поццуоли. На берегу там выложены огромные плоские камни, по которым местные рыбаки спокон веков втаскивали лодки и на них же расстилали сети. Нам сказали, что их и американцы использовали (в качестве сухого дока) при высадке барж с людьми и техникой. И людей, и технику потом отправят на север, в Анцио. В январе. Американцы убрались быстро, не оставив следов своего пребывания. К середине лета город опять замкнулся в собственной жизни, со своим диалектом и смесью архитектурных стилей. Гуляя по берегу, мы набрели на кафе, где нам подали морепродукт, которого я прежде не пробовал: мелкие моллюски, обваленные в муке и обжаренные в масле. Луиза сначала высмеяла этот «южный деликатес», предположив, что ракушки соскребли с днища лодки. Но распробовав, заказала еще.
Я понятия не имел, когда и в каком качестве меня вызовут в батальон. Луиза один раз уже отказалась переходить в римское отделение Красного Креста и думала, что второй раз ей не отвертеться. Я сказал, что поеду с ней. И представил себе маленькую комнатку в доме с садом на крыше, с видом на площадь близ тихой бухты.
Каждый наш день был как подарок, поэтому мы радовались, не давая воли грусти, не думая о том, что рано или поздно меня вызовут. Но неизбежность разлуки побуждала меня смотреть и смотреть на бледную кожу, на черные волосы, на то, как Луиза, откинув голову назад (если ее что-то смутило или удивило), изучает меня из-под полуопущенных ресниц. Из-за неотвратимости расставания мне позволяли снова и снова гладить выпуклость бедра, проводить кончиками пальцев вдоль плавной линии от талии до колена. Каждая клеточка моего тела в тот момент ликовала по отдельности, но все вместе они дружно приветствовали близость этой женщины бурей неслышимых, но неудержимых оваций.
Поймав себя однажды на таких мыслях, я с улыбкой подумал о миллионах синаптических взаимодействий (еще помнившихся из лекций по неврологии), которые сейчас на что угодно реагировали бурным «да». Я уже начинал узнавать ее любимые словечки, выражения, жесты – то, что обычно называют «характерными особенностями». Одни покоряли меня сиюминутной невероятной прелестью, другие – прелестью ожидаемой, когда радуешься уже знакомой фразе или движению. Это было время упоительного азарта, нечто похожее испытываешь, когда все четче становится изображение на снимке, погруженном в кювету с проявителем.
У Луизы обо всем имелось четкое представление, определенный набор шаблонов, но она умела – как тогда, с обжаренными моллюсками, – признавать свою неправоту. Счастливое свойство, никакого мелочного гонора. Конечно, она могла и вспылить, да еще как! Если ее что-то обижало, сверкали молнии и гремела пушечная канонада. Но она быстро остывала и больше к досадному эпизоду не возвращалась.
Я всегда скептически относился к парням, на все лады превозносившим своих возлюбленных, как будто до них никто никогда не испытывал нежных чувств. Сам я старался не очень-то заноситься, особенно в таких делах. И все же не мог не усмехнуться от самодовольного изумления, думая о том, какая необыкновенная со мной приключилась история. Генуэзская девушка из зажиточной благополучной семьи, католичка. Такая скромная, но при этом восхитительно пылкая, обожает арии Пуччини, разбирается в винах, любит картины Караваджо… и вдруг прикипела к английскому деревенскому парню, выросшему без отца, к перемазанному окопной грязью и кровью солдату, доверилась ему всецело и безоглядно. Крестьянин, осчастливленный их сиятельством графиней, что-то в этом роде. То есть абсурд полный. И ведь она понимала меня так, как никто другой из прежних друзей и знакомых. Она знала каждую родинку, каждый волосок на моем молодом, исхлестанном войной теле. И только когда я смотрел в ее глаза, которые были так близко от моих глаз, я осознавал, кто я. Впервые, только с Луизой я сумел найти себя.
Почему она была так бесконечно великодушна, так щедра ко мне? Правда, и она видела во мне источник радости; я хоть и не сразу, но почувствовал это и поверил, что так оно и есть. Думаю, со мной ей удавалось быть такой, какой ей хотелось быть, свободной от пут стыда и условностей. Она сама примерно это как-то мне сказала. Вероятно, ей тоже было странно, что обрести себя ей помог иностранный солдат, в надежде на знакомство подплывший к платформе в море.
…Мы лежали обнаженные на кровати, под отвратительным изображением озера Аверно. Луиза захотела поселиться в той же гостинице и в том же номере. Она гордо демонстрировала мне шелковые чулки, добытые у сержанта. Пояс для чулок из галантерейного магазинчика, reggicalze, состоял из множества тесемочек и ленточек и действительно выглядел как раритет из бабушкиного сундука. И пояс, и чулки Луиза снимала очень осторожно и укладывала на платье, ибо от соприкосновения с деревянной спинкой стула на драгоценном шелке могла спуститься петля, а это катастрофа. Она любила одежду со страстью, для меня непостижимой.
Убедившись, что все сложено идеально, удовлетворенно улыбалась, в своем невинном простодушии напоминая ребенка, не сознающего собственной наготы. И все не могла наслушаться моих рассказов, ей все было мало. А я постоянно держал в памяти девочку, которую пригласил тогда в офицерский клуб. Закрывал глаза и видел, как она, закончив говорить, опускает голову, словно стесняется смотреть на нашу компанию за круглым столом; руки сложены на коленях, не видных под краем столешницы, а колени целомудренно прикрыты подолом хлопкового платьица. Я снова открывал глаза и смотрел на то, что происходило на постели сейчас.
Луиза с удовольствием рассказывала о себе, но у меня складывалось впечатление, что жизнь ее началась с того момента, когда она увидела, как мы с Дональдом ныряем. Период до этого события был представлен набором отдельных, более или менее благопристойных эпизодов, в которых сама Луиза участвовала словно бы за компанию, по инерции. Меня эта фрагментарность несколько озадачивала.
Уже под утро мы, лепеча исступленный вздор и тая от нежности, снова соединялись, после чего жутко хотелось спать. Мы закрывали ставни, чтобы не бил в глаза свет из порта, но окно оставляли распахнутым настежь. От адской жары обнимать друг друга было невозможно, каждое прикосновение жгло. Но я все равно не убирал ладонь с ее мыска между ног. Я просто не мог ее убрать, даже когда затекало запястье.
Теперь, когда я уверовал в то, что Луиза меня любит, в душу закралась тревога. Без меня, думал я, она больше никогда не сможет быть собой. Или вдруг случится нечто непредвиденное. Ребенок, например. Или в нашу жизнь вмешается сторонняя сила, которую ни ей, ни мне не преодолеть.
В то лето я регулярно отмечался в штабе бригады, но воспринимал эти визиты как формальную процедуру. Скучающий штабной в очередной раз выдавал предписание на медицинский осмотр, но вроде бы отправлять в действующую армию никто меня не собирался. Я объяснял себе эти отсрочки временным затишьем после взятия Флоренции, Союзническое командование готовило новые вызовы противнику.
Каждый раз, когда мне даровали еще неделю отсрочки, Луиза плакала от радости. Мы отмечали отсрочку ужином при свечах, сидя за столом в садике у ее дома, когда солнце уже погрузилось в море.
Райская идиллия оборвалась в то утро, когда я получил приказ прибыть в Рим для окончательного освидетельствования. И уже назавтра на цыпочках выходил из комнаты Луизы, чтобы на первом же автобусе ехать в Неаполь, на вокзал.
Мужчины в вагоне были давно не бриты, а женщины – в залатанных платьях, сшитых и перешитых из того, что удалось найти. Некоторые везли с собой цыплят в плетеных клетках. Было много детей, одетых в старье. Сгрудившись в середине вагона, они изумленно таращились на лощеного английского вояку, на его майорский мундир с блестящими пуговицами, которые этой ночью, обливаясь горькими слезами, старательно начищала вояке его генуэзская возлюбленная.