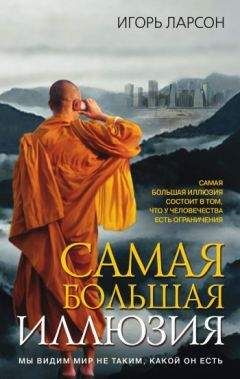Бахыт Кенжеев - Обрезание пасынков
На всякой раскинувшейся площади я невольно искал взглядом уличные часы. Но их не было и нет.
Большие часы здесь можно увидеть только на полузаброшенных старых вокзалах, откуда в день отправляется три электрички и один-другой медлительный поезд дальнего следования.
Впрочем, в Сент-Джонсе, где я коротаю свои стариковские дни и ночи, огромными курантами украшено серое здание губернского суда, внутри которого, понятное дело, мне бывать не доводилось.
3
Как же я рад, что мне предоставили эту путевку. Иными словами, предоставление путевки доставило мне удовольствие и чувство шанхайской признательности. Дворцы творчества, санатории, дома отдыха в Советском Союзе времен коммунизма обслуживали исключительно преданных рабов бесчеловечного режима.
Собакоголовые – называли мы их, опять же в шутку. Шепотом, прикрыв подушкой телефонный аппарат.
Жаль только, что у меня из памяти исчезло заседание профкома, на котором мне выдали путевку (жужжащие мухи, вода в пожелтевшем изнутри графине). И как составлял заявление шариковой ручкой, не помню. И почему согласился на этот северный санаторий с морским климатом?
Впрочем, не верь, сынок, сплетням про эти края. Здесь также проживают незамысловатую жизнь смертные люди, раскрашивая свои двухэтажные дощатые домики высококачественной краской, чаще всего – белой, реже – бирюзовой и пурпурной, иногда – малахитовой. Камень – гранит, базальт; небо – разбавленная синька, которую некогда добавляли в белье, чтобы скрыть старческую пожелтелость. Добротное белье, которое в иных семьях сохраняется десятилетиями, в шестидесятых все еще украшалось мережкой, а иногда обвязывалось кружевом. Наволочки – во всяком случае.
Рассказывают: еще лет двадцать назад этот уединенный англосаксонский городок наводняли беглые русские крепостные. Матросы советских сухогрузов, приплывавших за зерном, курили папиросы, выходили прогуливаться и покупать джинсы и видеомагнитофоны. У них походочка – что в море лодочка, у них ботиночки производства фабрики «Скороход». Их выпускали группами по три-четыре человека. Иногда кто-то оставался. Как задыхались в эмигрантской печати, переходил на положение невозвращенца. Вид на постоянное жительство выдавали стремительно и без особых вопросов. На родине беглеца заочно осуждали на десять лет заключения в концлагере, а ближайших членов семьи перерабатывали на консервы для лагерных овчарок.
В доме отдыха по бессрочной путевке обретается Александр Иванович Мещерский, бывший аэронавт из интеллигентной, возможно, даже и княжеской семьи. И хотя алкоголь не поощряется, иногда он, навещая меня, извлекает из заднего кармана широких штанин плоскую фляжку барбадосского рома. Мы отхлебываем его из горлышка по очереди и жизнелюбиво смеемся, словно десятиклассники, сбежавшие с урока.
Местный житель, потомок британцев, всем напиткам предпочитает ром и портвейн, не считая, конечно, пива. В винно-водочном магазине не меньше сортов рома, сколько на материке – сухого вина. А еще изготовляют собственное пойло, которое еще десять лет назад тоже называли портвейном, а теперь «крепленым». Видимо, португальцы возмутились злым употреблением копирайта.
А когда мы длительно обитали, болея душой и телом, за железной занавеской, никаких копирайтов не уважалось. Липучий водный раствор сахара, красителя и спирта прозывался беззастенчивым портвейном. Пересоленный сыр, пронизанный синеватой плесенью, – рокфором, шипучее – советским шампанским. И бурый крепкий, выдержанный в дубовых бочках, наименовывался коньком – армянским, грузинским, дагестанским. В смысле, коньяком. Коньки назывались норвежками и гагами, если на них бегать, а если они сами бегали на соревнованиях, то вперед, семеня совершенными жилистыми ногами, выходил Душегуб, сын Лорелеи и Курбана, или же его обгонял холеный с белой звездой во лбу – Мизантроп, сын Диаспоры и Медикамента.
Лошади безропотно впрягались в легкую тележку, на которой восседал мелкий жокей, а зрители толпились у вокзальных окошек тотализатора, стыдливо называвшегося «кассой взаимных пари». А буржуазные «бега» официально именовались советскими «рысистыми испытаниями».
Руки у Василия Львовича в крови, рыльце в пушку, зубы на полке – он десять лет тому назад боцмана на своем дирижабле зарезал железным ножом.
Железный занавес – особое выражение из пожарного дела – использовали в театрах, если на сцене начинался пожар. Кажется, его Черчилль, благороднейший из бульдогов, впервые употребил в переносном смысле. И попал в самую точку, хотя вряд ли слышал популярную песенку «Мы на горе всем буржуям мировой пожар раздуем».
Думаешь, я не понимаю, что мы – искалеченный народ? Впрочем, к этому несчастью равнодушны даже мы сами.
4
Треска. Благословение и проклятие здешних мест. Двести лет местные жители кормились этой мускулистой серой рыбкой, разевающей перед смертью бессловесный рот. Другие ремесла позабыли. В четыре часа утра выходили на лов. Возвращались к вечеру, апостолы, с нейлоновыми сетями, полными то судорожных, то задыхающихся, то обреченных. Продавали мироеду-посреднику, уж не знаю, почем, должно быть, доллар за килограмм или около того. Кормились сами, меняли треску у земледельцев-соседей на овощи и зайчатину, экономя порядочную копейку. По закону, разумеется, любой обмен, который по-нынешнему прозывается бартером, облагается налогом. Но законопослушность западного человека, ты уж не расстраивайся, сынок, сильно преувеличена. Там, где закон нарушить безопасно, он почти не колеблется, исподволь превращаясь в русского человека с его прославленной поговоркой «Закон что дышло – куда повернешь, туда и вышло».
Рыба, в некотором роде, есть символ жизни, но не в христианском смысле. Рыба-ибо. Будь я поэтом, написал бы на эту тему философский стих. Или два. Рифма-то кайфовая, улетная, с выходом на высокий стиль и сопряжение смыслов, как выразился бы в юности мой друг Сципион. И еще: могли бы. Спасибо. Либо. Кандыба (украинский философ XIX века, существование которого представляется довольно сомнительным).
Грибы.
Нет, я пошутил. Ударение не позволяет считать данное созвучие рифмой.
Тут иное: если бы да кабы, да во рту росли грузди и лисички, по Смоленской дороге столбы, столбы, столбы, дороги Смоленщины, усталые женщины, прижимающие к увядшей (если не ошибаюсь) груди кринки с антифашистской сметаной. Нас двести миллионов, всех не перевешаете. Ошибся: Как кринки несли нам усталые женщины, прижав, как детей, от дождя их к груди.
Автор – патриот Константин Симонов. Адресат – патриот Алексей Сурков.
Он тоже писал про войну и ее проказы: мне в холодной землянке тепло от твоей независимой любви. До тебя мне дойти нелегко, а до смерти четыре шага.
Когда патриот Константин Симонов услыхал, находясь в сильнодействующей армии, что Военная коллегия Верховного суда СССР объективно приговорила патриота Алексея Суркова к высшей мере пролетарского наказания за шпионаж в пользу одной иностранной державы, он исхлопотал себе краткосрочный отпуск с Большого театра военных действий, добился приема у Троцкого, пал на колени, не страшась испачкать новые шевиотовые галифе, и, по неподтвержденным сведениям, упрашивал позволить ему лично расстрелять осужденного.
Между жарким и бланманже цимлянского несут. Уже – вскричал Евгений грозно и, обнажаясь, как булат, взглянул печально и серьезно на свой остывший шоколад.
Это Плюшкин, сынок, великий и несравненный российский поэт. Наше всё.
Подростки за партами, выключив сотовые телефоны, задумчиво слушают небольшие трагедии Плюшкина в исполнении хора и орхестра.
Проплывают океанские ледоколы – привет Плюшкину.
Пролетают космические вездеходы – слава Плюшкину.
Проползают ядерные сноповязалки – вечный покой Плюшкину.
Его застрелил из отравленного пистолета сенатор Дантес на дуэли, организованной царским правительством и лично Николаем Вторым – Кровавым.
Так нас учили. А на самом деле его самостоятельно замучили большевики в пересыльном лагере близ Владивостока.
Поэтов, художников и философов, содержавшихся в лагере, погрузили на заржавленную, но самоходную баржу «Вячеслав Молотов», отвезли километра на два от берега, связали руки за спиной колючей проволокой, привязали к ногам по куску рельса и побросали в Тихий океан. Будь океан помельче, случайный ныряльщик еще года два рисковал бы оказаться среди мертвецов, объеденных гигантскими крабами.
Рыба в некотором роде представляет собой символ бескорыстия, поскольку лишена рук, ног, коры головного мозга, честолюбия, путевок в пожизненный санаторий, секусального драйва (оставь это написание, оно нравится мне), чтения, письма и прочих прилагательных нашей заблудшей цивилизации. Она – жизнь в чистом виде, я даже написал бы жызнь, как принято сегодня среди продвинутых пользователей.