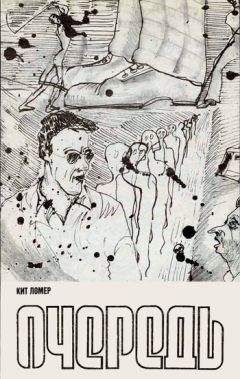Андрис Пуриньш - Не спрашивайте меня ни о чем
— Будут кататься на лыжах с Килиманджаро, а крокодилы переползут на Марупский пруд. Какаду будут сидеть на липах в парке Кирова. Удавы обовьют троллейбусные провода, уличное движение застопорится, и не надо будет ходить в школу. В школьных звонках совьют себе гнезда колибри, будет стоять непрерывный звон, и будет вечная перемена.
— А как же с обезьянами? — засмеялся он.
— Возможно, обезьяны станут преподавать нам математику и за хороший ответ будут угощать бананом.
Мы шли по направлению к дому Фреда. Подходило время, когда ему надлежало быть на месте.
— Приехала тетка из деревни.
— Откуда она у тебя взялась?
— Я и сам впервые услышал. Вернее, увидел. Явилась, и все.
— Печально, — сказал я.
— Чем плохо? Деревенской еды навезла.
— И все-таки печально, печально.
— Почему?
— Не знаю. Печально, и все.
— Ты теперь что будешь делать?
— Пойду послушаю оперу.
— Какую?
— Какую покажут.
— Есть билеты?
— Еще чего! В первом антракте войду и залезу на галерку. Пока еще тепло и люди ходят без пальто — это верный номер.
— Да, — согласился Фред, — это номер верный.
— Ты поверил, что пойду в оперу?
— Нет, — сказал он.
— Возможно, схожу в театр. По той же системе. Первое действие можно спокойно пропустить. Главное ведь бывает потом.
— Тогда, правда, лучше уж в театр.
Мы добрались до Фредовой обители.
— Ты как-то хотел переписать пластинку, — сказал я.
— Какую?
— Лучших семьдесят третьего года.
— Ну, принеси.
Он пошел домой, а я остался ждать на улице. Вскоре открылось окно и Фред крикнул:
— У тебя есть во что положить?
Я развел руками. В сумку ведь не затолкаешь.
Он притащил «Топ Оф Д’Попс». Альбомы он принес в пластиковом мешочке. Я вынул. На синем фоне стояла в желтом купальнике загорелая девушка с двумя косичками.
— Клевая цыпа. — Он щелкнул по конверту.
— Да, — сказал я и перевел взгляд на оглавление: «Альз шпрех ейн Менш». — Что это означает?
— Это по-немецки.
— Тебе ведь известно, что я не знаю немецкого.
— И я тоже учу инглиш.
— Так если знаешь, что это означает, скажи! — завелся я неожиданно для себя самого.
— Так говорил один человек, — перевел он.
— Замечательно, — признал я. — Прекрасно. Как раз для меня. Под сегодняшнее настроение: охота кого-нибудь послушать. Кто ни о чем не спрашивает, а сам рассказывает, поучает, наставляет, разъясняет; если ты, конечно, понимаешь, как мало во всем смыслишь.
Фред ухмыльнулся.
— Говорят, Мао сказал: чем больше учишься, тем больше глупеешь.
— Ты это скажи Тейхмане, — предложил я. — И не забудьдь добавить, кто в таком случае наимудрейший в нашем классе.
— Нет, Иво, серьезно: чем больше человек знает, тем шире для него граница круга, за которым остается неведомое и…
— Иди ты к черту!
— Да, нервы у тебя расшатались, — констатировал Фред.
— Да, вот такой я сегодня… Как тебе болеется?
— Ничего особенного. Как обычно. Сам знаешь.
— Да.
— А твои как дела? Как ребята?
— Нормально. Когда в школу придешь?
— Хотел завтра, по доктор продлил освобождение. Значит, послезавтра.
— Хорошо. Будем иметь в виду.
— Чао, Иво!
— Чао, Фред! Чеши к своим теткам!
Мы поплелись каждый в свою сторону.
Ничего предпринимать сегодня вечером не хотелось.
Когда шел через парк, послышался женский голос. Звали меня.
Солнце было осеннее. Облака в небе тоже. Листья желтели, но облетать, похоже, еще не собирались.
Я продолжал идти в прежнем темпе и с таким видом, будто ничего не слышал. Тогда женщина позвала еще раз, и было глупо продолжать разыгрывать из себя глухого.
Подошел к скамье и сел рядом.
— Здравствуй. Лилиан, — сказал я.
— Привет, Иво! — ответила она. — Я подумала, ты не хочешь меня узнавать.
— Почему же…
Я не стану рассказывать, как она выглядела. Это уже не имело никакого значения. Но раз ее любил Эдис, значит, она была красивая.
В детской коляске, которую слегка двигала ее рука, лежала спящая девочка, совсем еще кроха. Лилиана перехватила мой взгляд, хоть он и был мгновенным.
— Как ее звать? — спросил я.
— Сандра.
— Красивое имя.
— Да.
— И кто же ее папа?
— Инженер.
Исчерпывающе! Но расспрашивать я не стал. В конце-то концов, какое мне дело! Хоть бы министр.
— Ты стал взрослым.
Таким же взрослым, как Эдис, хотелось мне сказать, но я ограничился коротким:
— Да-а…
— Ну и как у тебя дела, Иво?
— Ничего, жить можно. Учусь.
— В каком классе?
— В последнем.
Безо всякого труда она могла бы это вычислить самостоятельно. Но спросила! Лишь бы что-нибудь сказать. Лишь бы оттянуть момент, ради которого она подозвала меня, хоть и понимала, что у меня нет ни малейшего желания разговаривать с ней.
Мы болтали о том о сем, и потом она все-таки не удержалась:
— Наверное, ты меня ненавидишь?
— Почему ты так думаешь? — сказал я. — Эдиса ведь больше нет.
— Я его очень любила.
— Я знаю. Но что поделаешь, если уж все так складывается…
— Я чуть с ума не сошла.
— Верю. Проклятая лейкемия!
— Так ты не презираешь меня…
— Нет.
— Я очень любила Эдиса.
— Знаю.
И все-таки я Лилиану ненавидел. Глухо, где-то в подсознании, какой-то инстинктивной животной ненавистью. Хоть умом и понимал, что я не прав, что не может жизнь остановиться потому только, что брата не стало. Я знаю, как любил Лилиану Эдис, однако не могла же она весь свой век скорбеть по Эду, потому как век один. И теперь с Лилианой живет кто-то чужой, возможно, они даже счастливы, а Эдиса нет и не будет никогда… Я понимал, что не прав, и потому взял себя в руки и промолчал, чтобы не причинять ей боль, ей и без того досталось пережить, и, может, она часто вспоминает брата, а иногда, возможно, видит его во сне. И все равно я ее ненавидел, хоть и нечего мне было ей прощать, потому что ни в чем она не была виновата.
— Ну, я должен идти, — сказал я. — Всего хорошего.
— Будь счастлив, — шепотом проговорила она на прощание.
Я не ответил.
Я все шел и шел и вошел в больничный парк, потом в посыпанную белым песком аллею.
Была ночь.
Сияла большая круглая луна, тоже совсем белая. Небо было темно-синее, без туч, но и без звезд. Аллея тянулась в бесконечность, и деревья цвели синими с фиолетовым отливом цветами. Между деревьев маячили белые мраморные постаменты и стояли скульптуры; некоторые были покалечены, а иные — целехонькие. Много было пустых постаментов.
Я тут однажды был, я знал это, но не помнил, что дальше. Начиналось все так же, как в прошлый раз.
Воздух был прохладен, свеж и душист. Я в себе чувствовал легкость. Кругом было тихо.
Двинулся вперед, шагов не ощущал.
В кустах заметил тучного мужчину с невыразительным лицом. Он помахал руками, без малейшего труда поднялся в воздух и совершил посадку на постамент.
Я изо всех сил напрягся, стал легким, как пылинка, и взлетел к зеленым кронам деревьев.
Мысли были легки и светлы. Чуточку кружилась голова.
Скользил по аллее вперед, потом вдруг почувствовал, что могу лететь, не шевеля руками. В просветах листвы мимо скользили черные здания с мертвыми глазами, потом впереди завиднелся многоэтажный ярко освещенный дом, в его окнах двигались тени. Неощутимый поток воздуха принес меня к настежь распахнутой двери. Я влетел и приземлился.
Потолки и стены помещения были белыми, а пол выложен красной изразцовой плиткой.
Впереди была маленькая дверь.
Вдруг мне стало страшно.
Руки и ноги налились свинцом.
Я как будто хотел уйти, а сам вошел в маленькую дверь и очутился в снежно-белой комнате.
На стене, присосавшись к ней щупальцами, сидела гигантская бабочка. Ее желто-фиолетово-синее тело замерло. Четыре крыла слегка трепетали. Глаза ее вперились в белую стену. Бабочка тихонько пела.
В углу комнаты стоял грубо сколоченный низкий стол, рядом стул. На столе длинный предмет, накрытый простыней.
Я сел.
Протянул руку и приподнял простыню.
Под ней с закрытыми глазами лежал мой брат Эдис.
Он был мертв.
Я не плакал, но слезы катились по щекам.
Я накрыл тело Эдиса простыней, как было, когда я вошел.
Встал и направился к выходу.
В свете гигантского лунного диска по аллее из сине-фиолетовых цветов порхали сонмы людей в белом. Только нельзя было разглядеть их лица — то ли было в них какое-то выражение, то ли отсутствовало — не понять. Все они казались одинаковыми.
Побрел в парк.
Тишина… Шорох листьев… Пустые постаменты… Тусклое солнце висит на корявых сучьях… Осень умирает…