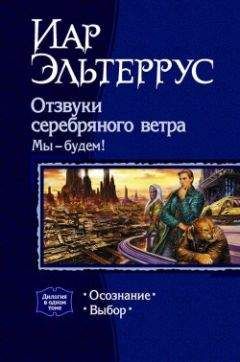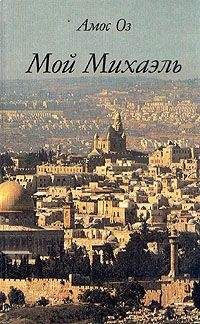Владимир Киселёв - Весёлый Роман
И, не разбирая дороги, цепляясь за кусты, тяжело ступая, он зашагал к калитке.
Я вспомнил клятву Гиппократа, которую мне когда-то прочел мой брат Федя. Что-то там было такое в этой клятве о том, что «я не дам никому просимого у меня смертельного средства и не покажу пути для подобного замысла». Это осталось до сих пор, потому что люди всегда надеются на чудо, они не хотят примириться со смертью. Врач не может дать больному яд. Как бы больной ни мучился. А вдруг он вопреки медицине выздоровеет.
Я вернулся в комнату. Николаю после укола, по-видимому, снова стало легче.
— Присаживайся поближе, — предложил он, — поболтаем.
Он заговорил о теории игр.
— Помнишь, я когда-то рассказывал тебе о Джоне фон Неймане? Математики до сих пор не могут успокоиться, что он умер так рано. В пятьдесят седьмом ему было пятьдесят четыре года…
Я молчал.
— Джон фон Нейман — создатель новой области математики с безобидным названием «теория игр». Математическое описание и решение конфликтных ситуаций. Любых. Всех. Эта теория рассматривает вопросы оптимального поведения людей при наличии противодействующего противника. И главное в теории игр — стратегия. Ходы, которые применяет игрок для достижения каких-то результатов… Ты это понимаешь?
— Понимаю, — сказал я не очень уверенно.
— Так вот, есть в теории игр такая математическая формула… Если ее изложить словами, это будет выглядеть примерно так: «В случае, если все стратегии ведут к проигрышу, минимальный проигрыш будет эквивалентен максимальному выигрышу». Вот так-то.
Это мне было понятно. В его игре все стратегии вели к проигрышу. Смерть, очевидно, всегда проигрыш. Но что считать максимальным выигрышем? Самую долгую жизнь? Как же те, кто умирает в бою? Кто умирает на посту? За правое дело? Как это пелось в какой-то арии?.. «Что наша жизнь? — Игра!» Вот тебе и математическая теория игр…
— Знаешь что, — сказал Николай. — Только не говори «нет»… Возьми Лену, и пойдите на пляж. До обеда. Ничего со мной не случится. Со мной соседка посидит. Тут есть такая толстуха… Она все похудеть мечтает. Я на нее положительно действую в этом смысле. Позови Лену.
Лена стояла в саду над керогазом. От нее пахло керосином и пригоревшей манной кашей. Она плакала.
— Я не могу его наладить, — говорила она. — Он горит с одной стороны. Больше всего я устаю от этого.
— Пусти, — сказал я грубо. Мне ее было так жалко, что хотелось плакать и гладить ее по голове. — Это чепуха. Сейчас он заработает как зверь. — Я погасил керогаз и, пачкая пальцы черным керосином, стал подтягивать кончиком ножа фитиль. — Николай хочет, чтоб мы пошли на пляж. Он говорит, что с ним посидит соседка.
— Я не хочу на пляж, — сказала Лена. — Может, просто посидим в саду, а ему скажем, что были на пляже. Или ты сам пойди. — И в ответ на мой удивленный взгляд она добавила: — Тут столько людей на пляже… И потом я боюсь, что купальник будет на меня… ну, слишком свободен.
— Как хочешь. Но Николай просил.
Я снова разжег этот вонючий керогаз. Он горел ровно, без копоти.
— Так просто, — сказала Лена. — Хорошо, пойдем.
Я тогда учился уже в седьмом классе. И на лето меня отправили в пионерский лагерь. В Пущу-Водицу, под Киевом. Нас повели купаться на пруд. Я хорошо плавал, В первый же день я пронырнул между ногами у кого-то из вожатых и вынырнул чуть ли не посредине пруда. Что тогда поднялось! Меня чуть не выперли из лагеря.
После этого мне больше не хотелось ходить купаться. Недалеко от берега выстраивались цепью все вожатые. Отряд входил в воду, и на крошечном пятачке, огороженном телами вожатых — глубина там была по пояс, — пионеры ныряли, брызгали друг в друга водой, а вожатые кричали: «Сидоренко, вынырни! В последний раз предупреждаем…»
На этом ялтинском пляже купание напоминало пущеводицкии пруд. Вдоль берега, на глубине не более человеческого роста, были расставлены боны, и в этом отгороженном от моря пространстве купающиеся, как сардины в консервной банке, терлись друг о друга. А дальше, за бонами, лениво покачивались лодки спасателей, вооруженных мегафонами, и то и дело слышались железные голоса: «Гражданин, вернитесь! Вернитесь, или вы будете оштрафованы!» Это загоняли за ограждение тех, кому хотелось заплыть подальше.
Какая-то девушка пронырнула под лодкой спасателей и, несмотря на рев мегафона, мастерским кролем, в темпе соревнований ушла за боны. Сейчас же к ней подлетел белый катер на подводных крыльях, сильные руки спасателей втащили ее на борт, ей прочли нотацию, а затем отпустили, предупредив в мегафон, что в следующий раз оштрафуют. По-видимому, здешние спасатели смотрели на каждого, кто вошел в воду, как на потенциального утопленника.
Я плыл брассом, почти не шевеля ногами — боялся ушибить кого-нибудь, — и голову держал над водой, и все равно толкнул какую-то тетю с сильно накрашенным лицом и во вьетнамской соломенной шляпе конусом.
— Вы тут не один! — кричала тетя мне вслед.
Я подумал, что люди иногда говорят странные вещи. Вот уж где никому не могло прийти в голову, что он тут один.
Лена плыла рядом, ловко огибая купающихся. Она хорошо плавала. Но каким-то странным стилем. На боку, такими быстрыми, короткими толчками. Как креветка.
Мы подплыли к буйку, и сейчас же дочерна загорелый парень из спасательной шлюпки закричал в свой мегафон: «Граждане, немедленно вернитесь назад!»
Я сплюнул в воду и встал на ноги. Прямо у буйка мне было до подбородка.
— Пойдем, Лена, — сказал я. — Это купание пешком в самом деле опасная штука. Можно утопиться. Со злости.
Мы вернулись на берег и сели на мелкой, затоптанной гальке у воды. Мы с Леной были здесь самыми белокожими.
Возле нас лежал на полотенце бородатый дяденька, у которого на груди был выколот бородатый Маркс. Дяденька был красным как рак.
— Смотри, чтоб не обгореть, — сказала Лена. — Нужно было крем с собой взять. Есть такой крем для загара.
— Ладно, — сказал я. — Обойдемся без крема. Я лег на живот и стал руками разгребать гальку.
— Зачем вы под меня подкапываетесь? — кокетливо спросила толстая тетенька.
Тесно на этом пляже.
— Пойдем уже, — предложила Лена. — Тебе транзисторы не мешают?
— Нет, — ответил я. — Они у вас здесь повсюду. Я уже привык.
Лена надела платье прямо на мокрый купальник, и от этого оно еще больше обвисло. На спине, как цыплячьи крылышки, обозначились лопатки.
У входа во двор мы оба, не сговариваясь, ускорили шаги, присматриваясь и прислушиваясь к дому. Но все было тихо. Затаив дыхание, мы прошли через веранду в комнату, которая показалась мне темной и душной после ослепляющего солнца улицы.
— Как ты? — спросила Лена.
— Хорошо, — сказал Николай. — А почему вы так быстро?
— Они расстреливают каждого, кто переходит границу, — серьезно объяснил я положение на пляже.
— Зачем же вы туда полезли? Оседлал бы ты буланого коня, да крепко к чему-то там приторочил перемет, да взял бы Лену, да мотанул бы куда-нибудь вдоль побережья подальше от спасателей.
— А тут еще можно найти такое место?
— Сколько угодно.
— Что ж, это идея. Только как-нибудь в другой раз.
— Только не в другой… Не нужно в другой. Прямо сейчас и поезжайте.
— Я не хочу, — сказала Лена неожиданно резко.
— Ничего, ничего, — странно посмотрел на нее Николай. — Не выдумывай. Приговор окончательный и обжалованию не подлежит. Я вас очень прошу, ребята… Я вас очень прошу.
Мы поставили мотоцикл прямо у дороги, где уже стояло несколько «Москвичей», старый, видавший виды «Цундап» с коляской и пара мотороллеров «Чезет». Один из них был весь в деколях — переводных наклейках. Как выражаются наши ребята, в «петухах», хотя в основном они изображали не очень одетых красавиц.
И вдруг я увидел непонятный мотоцикл, окрашенный зеленой эмалью с бронзой. Как жук-бронзовка. Он весь светился. Меня потянуло к нему, как магнитом.
Номер иностранный. Я отыскал марку MV-600. Итальянский. Я о таком даже не слышал. Чудо техники. С четырехцилиндровым четырехтактным двигателем. Кубиков на пятьсот. С двумя карбюраторами. С трубчатой двойной рамой. На спидометре максимальная скорость — сто восемьдесят пять километров в час. И это не рекламный треп. Такой выжмет. Такой мотоцикл спортивной автомашине не уступит. И стоит он не дешевле автомашины. Классный механизм.
В другое время я бы дождался владельца. Я бы с ним поговорил. Но сейчас я только погладил крыло, отсвечивающее зеленой бронзой, и почувствовал ожог, словно дотронулся до раскаленной сковороды.
Хотя о чем с ним было говорить? Все равно он в этом ничего не понимал. И не знал, какая под ним машина. Новенькие шины были изношены так, что посредине покрышки протектор сохранился, а по краям совсем стерся. Даже шин не мог накачать как следует. Основную нагрузку принимали борта покрышки. Я мог поручиться: если бы заглянуть внутрь, стали бы видны черные полосы. О чем мне было говорить с человеком, который не умеет пользоваться манометром и поддерживать нужное давление. Да и не до этого мне сейчас было.