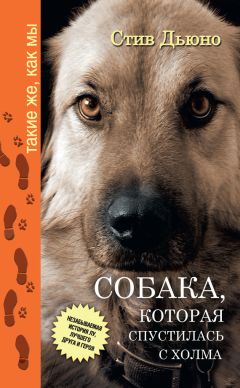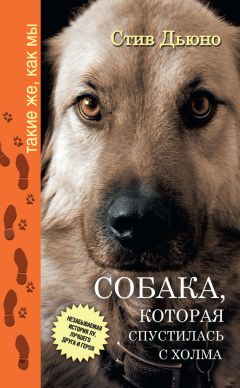Александр Терехов - Бабаев
И я не знаю, кто это такой. Наверное, филолог.
Он все же верил во что-то, он так говорил: «У меня было столько тяжелого в жизни, но все обходилось».
Все, университет, прошло, можно получать диплом, я не хотел идти (вот надо было так и сделать!), но Шах меня уговорил, приведя доводы, сейчас уже забытые мной, я взял с него обещание сидеть рядом, я покатался с утра с обходным, заперся в приемную декана сдавать засаленный задним карманом студенческий и вдруг не своим голосом молвил: «А можете мне его оставить на память?». Соннорогатая корова (я попал в ее смену), прекратив жевать, долго сопела. Я успел подумать о причинах ее молчания. Возможно, ее смущает, что я собираюсь с помощью просроченного и престарелого студенческого получить какие-то неположенные радости. Льготный проезд на ж. д. транспорте, например. И суетливо добавил: пускай даже студенческий будет перечеркнутый. Это бледно-белесое до рвоты животное теперь высказалось: «Я триста штук забрала. Почему я должна один отдать?».
Мне надо было отъехать, что-то начинался дождь, и я отъехал в одну редакцию, дождь намочил редактора Михаила Давыдовича Беленького, он рассказал: в школе привязал козу к звонку, она бодалась и никого не подпускала звонить на урок, я чуял себя влипшим во что-то густое, тяжелое и неотвратимое, но почему? – что такое кончалось? я ж там не учился, компаний не водил, не подымался с докладами на ученых советах; кончалась молодость? – так не в двадцать же пять она кончилась, надо пройтись погулять, разогнать все самое это, но ударил опять дождь и с «Третьяковской» я вернулся назад, Шах не опоздал, но что-то говорил, что торопится, что со мной, может быть, сидеть и не будет, не успевает, я бешено молчал, таскаясь за ним, как хвост, Шах проломил двери в приемную: корова и еще одно существо сидели друг против друга и рвали в четыре руки наши студенческие билеты и бросали в урну, трещали тугие корочки, отлетали фотографии снова незнакомых мне людей, Шах порылся в урне, достал мои обрывки и вынес с равнодушно-вежливым видом, с каким милиционер возвращает документы избитому по ошибке прохожему, – я сунул разодранный студенческий куда-то, с тех пор ни разу не искал. Ходил туда, сюда, забрел в ремонтируемую Коммунистическую аудиторию, бюсты основателей университета стояли на полу, как инвалиды, снятые с тележек и выставленные на нищенскую работу в переходе метро, но угрюмая гордость в глазах. Огромный портрет Ломоносова завалили на бок, я разобрал надпись «Михайло, 1948, Нилин», потрогал нарисованную руку, кончик гусиного пера и почему-то нос: уголки глаз Ломоносова заливала красная, воспаленная, бессонная хворь, и только по щекам полыхало малиновое здоровье. И все было как-то нервно, я не сдержался и решил свалить, но прибыл старательно веселый хохол: да ты что?! все хорошо! санаторий закончен! да мы погуляем еще до тридцати! звони, и ты звони, да я тебе надоем своими звонками! – и мы сели на свои места в Ленинской аудитории, где сидели всегда – в последний раз – прибежал всклокоченный Карюкин – проснулся в одиннадцать утра в женской комнате на девятом этаже у почвоведов и почему-то запертый изнутри – вышиб дверь и помчался получить диплом, Шах тоже подсел, томились, не было декана, чужое тревожное прикосновение тронуло спину, сверху передали записку «Поздравляю», ага; декан сказал краткую речь, начальник курса Суяров начал быстро читать фамилии, а декан вручать вот то, что должен, мужикам жал руки, барышням целовал, получившие поджидали знакомых, собирались кучей и уплывали коридором, я ждал своей буквы, расположенной невысоко, вот, декан промямлил: «Поздравляю А. М.», я расписался за что-то и отошел с пылающей мордой, отличница Машка Гарькавая с первого ряда (даже здесь села в первый ряд) крикнула: «Веселей!», я тупо подошел к профессору Семену Моисеевичу Гуревичу, Семен подбодрил: «Вот все и кончилось», влез в свой ряд, сунул трясущимися руками диплом Шаху, утирался платком, остывал, кончилось, все встали и двинулись на выход, все крыльцо забила толпа, пальцем по запорошившей машину Шаха грязи было выведено: «Спасибо от тех, кто умеет писать», мы погрузились, но выехать не могли – на дороге стоял фотограф – снимал прощальную фотографию курса, расставившегося по ступенькам. Я уговаривал Шаха купить черешни и заехать к Алле Витальевне Переваловой, она не могла, он торопился, и через пять минут я остался один напротив Центрального телеграфа, напротив сияющих золотых букв, и смотрел на свободу грязной газеты, которая моталась по улице Горького (а может, уже и Тверской) – то ложилась, ее переезжали и сминали машины, то вздыбливалась парусом, и ветер ее катил по дороге, то снова белой заплаткой ложилась на асфальт.
Что же остается? Что же остается потом? Ничего. Все кончилось. Все – перестало существовать. Все поглотила Вселенная, прописанная на земле под именем смерть. Как все-таки странно, что есть на свете что-то сильней моего «не хочу». Ты идешь по коридору и однажды за поворотом слова, взгляды, коричневый листочек с результатами анализов заставят увидеть дверь, которая будет вот это. И пойдешь к этой двери, и все (или нет?) потеряет смысл (нет?), и даже неувиденный чемпионат мира по футболу – все станет не твоим, потом чужим, потом ничьим – землю сожрет солнце, а потом солнце сожрет что-то еще, а что-то еще сожрет что-то еще побольше, и никто не узнает, что такое, например, сосновый лес и моя мама.
Смерть – я никогда не вижу ее целиком, не умещается в два глаза, представить не могу – кости, песок, абсолютно черная пустота. Даже такую малость – почуять – не могу, еще большую малость – представить, как это чувствуется, – и не можешь. Почему? Старики с остервенением летописцев осажденной Троице-Сергиевой Лавры описывают в дневниках насморки внуков и блеск солнечных лучей на больничных подоконниках, мокрых от ночного дождя, оформленность выделенного кишечного содержимого, собачьи плутни – но не это.
Не могу. Но в цирке, когда акробат лезет в ночь по тонкой палке, быстро перехватываясь меловыми ладонями – и у тебя мокрые ладони – ведь ты представил, представил, представил немногую часть того, что чувствовал бы ты вот там, если бы – так почему не можешь это? сейчас, когда еще не высохли мозги?
Не почувствовать. Какое там почувствовать, за тридцать пять лет (к мгновению этой строчки) я всего-то два раза понял полностью: да, умирать придется. Плевые обстоятельства.
Однажды в армии, в наряде по кухне, часа четыре дня, хмуро-солнечная погода тепло-ледяного времени позднего марта или самого начала ноября, паскудное такое время. Я стоял на мойке в засаленном, задубевшем от воды и грязи фартуке зеленого армейского цвета, брезентового материала, длинном, до сапог, засучены рукава – вода била искрящимся канатом в сотни тарелок, в горы глубоких и плоскогория мелких тарелок, невыспавшаяся башка (чистили картошку далеко за полночь, а из роты ушли до подъема, чтоб быдло не успело проснуться) – впереди полтора года бессмысленного нахождения вот здесь, и двуручный пластмассовый бак, набитый объедками и отрыжками; солнце заглядывает в пустую столовую, там вытирают столы, и стулья подымают ногами вверх, а то мрачнеет, и в окна ползет тяжелая смолистая хмарь – и вдруг я почему-то понял разом, словно услышал произнесенное: да, смерть будет, – завернул воду и быстро прошел кухню, пробежал столовую насквозь, огибая немногих людей, выскочил в раздевалку, где не осталось ни одной шинели – пустые крючки, и, распахнув стеклянные двери, вырвался на холод, присел и опустил растопыренные пальцы в студеный снег, посреди дороги, протоптанной людьми, которых два года водят строем есть, которые берут хлеб, когда услышат: «К приему пищи приступить!», в самом глухом месте Люберецкого гарнизона – я так сидел и трогал землю под сапогами, пока не понял: неправда. Не может быть.
Прокрутим вперед, появляется девушка, она учится на врача, хочется для нее что-то постоянно делать. Купить книгу, например, из тех, что могут ее заинтересовать – «Техника ухода за больными», перевод с венгерского синего цвета, и, как всегда, по прошловековой, позапрошловековой выучке обнюхивать даже ненужную тебе книгу (тираж, фамилия корректора, издательство, послесловие), я полистал, поцеплял слова, доплыл до главы о неизлечимо больных и дальше уже перебирал слова медленно.
«Смерть – это прекращение биоэлектрической активности головного мозга, наступает „электрическая тишина“».
«Наука, изучающая смерть, называется танатология».
«Верующие утверждают, что тот, кто в земной жизни верил в бога, умирает легко. Однако это далеко не так».
«Силы, чувства, мысли, образ поведения человека свойственны и его смерти».
«Что касается видов смерти, то в наше время очень „модной“ стала смерть внезапная. Это связано, в частности, с заболеваниями сердца».
«Древнегреческая пословица „Благоволение богов ниспосылает умирающему кому“».