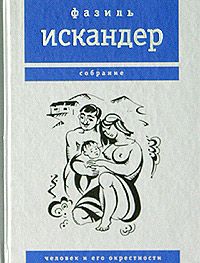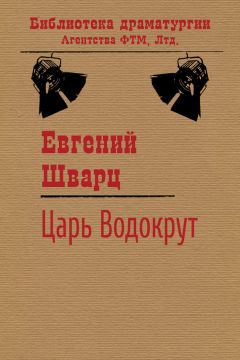Фазиль Искандер - Рассказы разных лет
Действие уже шло, но тетушка оживленно переговаривалась с тетей Медеей.
Во всяком случае, они о чем-то говорили. Это было видно по их лицам. Я понимал, что для тетушки все, что показывается до моего выступления, что-то вроде журнала перед кинокартиной.
Я с ужасом думал о том, что будет, когда она узнает правду. Теперь у меня оставалась последняя слабая надежда — надежда на пожар. Я слыхал, что в театрах бывают пожары. Тем более за сценой я сам видел двери с обнадеживающей красной надписью: «Пожарный выход».
Именно после того как я увидел эту дверь с надписью, у меня вспыхнула надежда, и я вспомнил душераздирающие описания пожаров в театрах. К тому же я увидел за сценой и живого пожарника в каске. Он стоял у стены и с тусклой противопожарной неприязнью следил за мелькающими мальчишками и девчонками.
Но время идет, а пожара все нет и нет. (Между прочим, через несколько лет наш театр все-таки сгорел, что лишний раз подтверждает ту правильную, но бесплодную мысль, что наши мечты сбываются слишком поздно.)
И вот уже кончается сцена, которую разыгрывают наши старшеклассники, и подходит место, где мальчик играющий гуляку-мужа, должен, пробренчав на гитаре (на этот раз настоящей), пропеть свою заключительную песню. Сквозь собственное уныние, со страшным любопытством (как дети сквозь плач) я прислушиваюсь: ошибется он или нет?
Я цыганский… Байрон,
Я в цыганку влюблен…
— пропел он упрямо, и Евгений Дмитриевич, стоявший недалеко от меня за сценой, схватился за голову.
Но в зале никто ошибки не заметил. Наверное, некоторые решили, что он нарочно так искажает песню, а другие и вообще могли не знать настоящих слов.
Но вот началось наше представление. Я со своим напарником должен был выступить несколько позже, поэтому я снова высунулся из-за кулис и стал следить за тетушкой. Когда я высунулся, Жора Куркулия стоял над оркестровой ямой и крутил свою веревку, чтобы вызвать оттуда старого черта. В зале все смеялись, кроме моей тетушки. Даже мой сумасшедший дядя смеялся, хотя, конечно, ничего не понимал в происходящем. Просто раз всем смешно, что мальчик крутит веревку, и раз это ему лично ничем не угрожает, значит, можно смеяться…
И только тетушка выглядела ужасно. Она смотрела на Жору Куркулия так, словно хотела сказать: «Убийца, скажи хотя бы, куда ты дел труп моего любимого племянника?»
У меня еще оставалась смутная надежда полностью исчезнуть из пьесы, сказать, что меня по какой-то причине заменили на Жору Куркулия. Признаться, что я с роли Балды перешел на роль задних ног лошади, было невыносимо.
Интересно, что мне и в голову не приходило попытаться выдать себя за играющего Балду. Тут было какое-то смутное чувство, подсказывавшее, что лучше уж я — униженный, чем я — отрекшийся от себя.
Голова тетушки уже слегка, по-старушечьи, покачивалась, как обычно бывало, когда она хотела показать, что даром загубила свою жизнь в заботах о ближних.
Жора Куркулия ходил по сцене, нагло оттопыривая свои толстые ноги.
Играл он, наверное, хорошо. Во всяком случае, в зале то и дело вспыхивал смех. Но вот настала наша очередь. Евгений Дмитриевич накрыл нас крупом лошади, я ухватился за ручку для вздымания хвоста, и мы стали постепенно выходить из-за кулис.
Мы появились на окраине сцены и, как бы мирно пасясь, как бы не подозревая о состязании Балды с Бесенком, стали подходить все ближе и ближе к середине сцены. Наше появление само по себе вызвало хохот зала. Я чувствовал некоторое артистическое удовлетворение оттого, что волны хохота усиливались, когда я дергал за ручку, вздымающую хвост лошади. Зал еще громче стал смеяться, когда Бесенок подлез под нас и попытался поднять лошадь, а уж когда Жора Куркулия вскочил на лошадь и сделал круг по сцене, хохот стоял неимоверный.
Одним словом, успех у нас был огромный. Когда мы ушли за кулисы, зрители продолжали бить в ладоши, и мы снова вышли на сцену, и Жора Куркулия снова попытался сесть на нас верхом, но тут мы уж не дались, и это еще больше понравилось зрителям. Они думали, что мы эту сценку заранее разыграли. На самом деле мы с моим напарником очень устали и не собирались снова катать на себе Жору, хотя он нас шепотом упрашивал дать ему сделать один круг.
Вместе с нами вышел и Евгений Дмитриевич Левкоев. По аплодисментам чувствовалось, что зрители его узнали и обрадовались его появлению.
И вдруг неожиданно свет ударил мне в глаза, и новый шквал аплодисментов обрушился на наши головы. Оказывается, Евгений Дмитриевич снял с нас картонный круп лошади, и мы предстали перед зрителями в своих высоких рыжих чулках, под масть лошади.
Как только глаза мои привыкли к свету, я взглянул на тетушку. Голова ее теперь не только покачивалась по-старушечьи, но и бессильно склонилась набок.
А вокруг все смеялись, и даже мой сумасшедший дядюшка пришел в восторг, увидев меня, вывалившегося из лошадиного брюха. Сейчас он обращал внимание тетушки, что именно я, ее племянник, оказывается, сидел в брюхе лошади, не понимая, что это как раз и есть источник ее мучений.
Но стоит ли говорить о том, что я потом испытал дома? Не лучше ли: «Занавес, маэстро, занавес!»
Детский сад
Он был расположен на нашей улице совсем недалеко от нашего дома. Первое время, когда я скучал по дому, я подходил к решетчатым ворогам и смотрел на темно-кирпичный двухэтажный дом с балкончиками на втором этаже. Было приятно убедиться, что он стоит на месте. Обычно на балконе сидела тетя и, покуривая папиросу, переговаривалась через улицу с соседями — учила их жить.
Сначала ходить туда было неохота. Хотел избавиться, но не знал как.
Однажды мимо нашего дома, весело провыв сиреной, промчалась пожарка, «Детский сад горит!» — закричал я и бросился к окну. Все рассмеялись. Не понимал почему. Потом оказалось, что пожар совсем в другом месте.
Но с годами, как говорится, я к нему привык и в конце концов полюбил.
Это было старенькое одноэтажное здание, облепленное со всех сторон флигельками, похожими на избушки из детских сказок.
Наверное, в нем было тесно, но мы тогда этого не замечали.
Посреди двора был прорыт большой котлован. Мы знали, что здесь будет новое здание детского сада. Но строили в те годы слишком медленно, а мы росли слишком быстро, и было ясно, что не успеем пожить в новом здании. Но это нас не огорчало, пользовались тем, что было.
Бросали негашеную известь в канаву с водой. Булькало и шипело. Шел дым.
Запах индустриализации щипал ноздри.
Однажды кто-то бросил в канаву котенка. Помню его мордочку, судорожно вытянутую над водой, и огромные замученные глаза. Такие глаза потом, взрослым, я встречал у актрис и у женщин, во что бы то ни стало решивших считать себя несчастными.
В этой же канаве мы запускали бумажные кораблики с бумажными парусами.
Кораблики неподвижно стояли на воде. Внезапно, уловив движение воздуха, быстро пересекали канаву.
Мы не придавали игре большего значения, чем она стоила. Бумажные кораблики были бумажными корабликами, и ничего больше.
Это потому, что рядом было настоящее море и по нему ходили настоящие корабли.
Лёсик был бледный, застенчивый мальчик. Обычно он молча стоял рядом с нами, не принимая участия в наших играх.
Однажды он вынул из кармана сережку и, краснея от стыда, протянул ее мне.
— Кораблик, — сказал он, стараясь понравиться.
Я понял, что он ничего не понимает. Я спрятал сережку и постарался отвлечь его великолепным каскадом остроумных выдумок. Лёсик порозовел от удовольствия. Я сделал королевский жест и подарил ему свой кораблик.
Показал, как дуть в паруса, и предупредил ребят, чтобы его не трогали.
Я ему хотел еще подарить морскую пуговицу с якорем, но он уже вошел в азарт, и я решил что сейчас правильней будет не отрывать его от коллектива.
Почему-то я знал, что надо делать с сережкой. На углу рядом с детским садом стоял старик, с лицом небритым и морщинистым, как старая кора. Под стеклом лотка, как рыбы в аквариуме, горели малиновые леденцы. Старик продавал леденцы. Возможно, это был последний частник на нашей земле.
Мы с товарищем, выбрав удобный момент, пролезли в пролом ограды и побежали к этому лотошнику.
Хочется попутно рассказать о моем товарище, о нашей дружбе, вероятно, довольно странной. Во всяком случае, нетипичной.
Он жил со мной в одном дворе, и мы вместе ходили в детский сад. Я сейчас не называю его имени, потому что мне не хочется подрывать его авторитет.
Дело в том, что он теперь стал прокурором. Но я тогда этого не знал и сейчас со стыдом признаюсь, что я в те годы над ним тиранствовал.
Вообще-то, мне кажется, все нормальные дети так или иначе проходят, можно сказать, тираническую стадию развития. У одних она проявляется по отношению к животным, у других — к родителям. А у меня по отношению к товарищу. Я думаю, что настоящие, взрослые тираны — это те, кто в детстве не успел побыть хоть каким-нибудь тиранчиком.