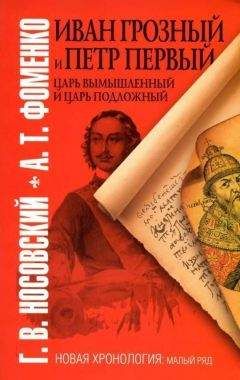Андрей Битов - Преподаватель симметрии. Роман-эхо
— Об отравителе? — последовала реплика Уандея. — Ну да, яды имеют что-то общее с кулинарией…
— Совсем нет! Как раз поэтому я и усомнился в отравлении.
Мы тяжко вздохнули, налили себе по полному бокалу шерри: раз уж выслушали два, валяй и третий!
Виоло построил свой роман-гипотезу на двух предпосылках: внезапности смерти Моцарта и причине этой внезапности.
Описания смерти Моцарта, действительно, заманчиво таинственны: он не заболел, а из него вдруг, таинственно и быстро, исчезли силы жизни, и он растаял, как свеча, угас, как светило, закатился, как Солнце („сдулся, как воздушный шарик“, — слова Виоло), будто и впрямь был отравлен неким секретным ядом.
Виоло как бы соглашался с легендой, что отравителем был Сальери, но совсем не в том прямом, злодейском смысле, что упрочился в легендах и прочей литературе. Яд Сальери был куда тоньше, изощренней и убийственней, чем любая алхимия — этим ядом послужило просвещение.
Моцарт был гениальнее, а Сальери — грамотней. Моцарт более тридцати лет (начиная с четырех) был непрерывен (то есть четырехлетним и оставался), никогда не задумываясь, кто он такой: кого он лучше или кто был до него: можно не сравнивать себя ни с кем, если ты единственный и первый, — ему было не до этого. Сальери, глубже всех восхищавшийся Моцартом, знал про разницу между вторым и первым очень даже хорошо. Он подсовывал Вольфгангу разные модные новинки, но тот все заранее знал: для него не могло быть ничего нового.
Но Сальери был терпелив и улучил момент.
Моцарт действительно принял этот мрачный заказ от таинственного незнакомца на заупокойную мессу, нуждаясь как всегда в деньгах и не устояв перед авансом. Задача эта поначалу угнетала его, дело шло туго, а сроки поджимали. Сальери прознал про одно случайное исполнение одной не исполнявшейся уже мессы одного забытого композитора и стал заманивать Моцарта пойти с ним послушать. „Отвлечешься, оттолкнешься…“ — уговаривал Сальери. Уговорил. И только Моцарт дал согласие, как месса у него двинулась и стала набирать и скорость, и легкость. Он чувствовал, как достигает предела сил, а это всегда бывало ТО: единственность и неповторимость творения! — либо помрешь, упав на лист рукописи, либо взлетишь еще выше, закончив и напившись на радостях в первом же кабаке. Выпить хотелось ужасно!
Тут и входит Сальери: оказывается, три дня пролетели как один, и им пора.
— Куда??
— Слушать мессу, ты же обещал!
Он поймал-таки его в момент наивысшего истощения!
И Моцарт покорно поплелся за Сальери, как в поводу. Как на заклание.
Сальери знал, на что он его ведет, но он и не предполагал, что прослышит, прозрит Моцарт своим-то ухом!
Это были „Страсти по Матфею“.
На обратном Вольфганг напился, не сказав Сальери ни слова. Он вспоминал, как они, беспечные и такие гениальные, с дружком Филиппом-Эммануэлем пропивали ничтожную сумму, вырученную за какой-то ветхий клавир отца Филиппа.
Вернувшись, он, не раздеваясь, плюхнулся за клавесин и стал писать, не успевая подыгрывать себе левой рукой, но и правая еле удерживала перо. Но чернила кончились. Он силился позвать, чтоб принесли… и медленно сползал со стула на пол.
И правда, сколь ни гениальна месса Моцарта, она единственная во всем его творчестве носит отчетливый отпечаток влияния, и это влияние Баха.
Два солнца вместе не восходят над горизонтом нашей планеты!
О, если бы он знал об этом раньше! То его бы такого и не было.
Зато у нас их теперь оба: и Бах, и Моцарт.
Мы молчали, выжидая, кто первый.
— Вот вы в своей гипотезе утверждаете, что Моцарт ничего не ведал о старом Бахе… А как же его „Хорошо темперированный клавир“! Ведь именно после него Моцарт обретает совсем новое развитие, вплоть до собственной великой Мессы?
(Я и не знал, что она так хорошо стала разбираться в музыке.)
Виоло выглядел убитым.
— И правда, есть такое сочинение… как же я не учел! Это рушит сюжет.
— Ладно, — махнул рукой Уандей, — такой роман не под силу и Томасу Манну. Фаустус нашелся…
И мы решили все-таки одобрить не написание им именно этого романа и принять Виоло в действительные члены Клуба.
Только в том случае, постановили мы, если главным героем станет посредственный Сальери, а гениальный Моцарт станет второстепенным. Дольше всего мы, как всегда, обсуждали название. „Человек, который не слышал Баха“ не прошел по целому ряду причин. Во-первых, длинновато и уже опровергнуто Гердой, во-вторых, из-за Честертона.[44] В-третьих (все аплодировали этому неожиданно тонкому замечанию Барли), в названии слишком раскрывается содержание произведения. Другое название, которое он тут же предложил — „Зрячее ухо“ — было решительно отклонено Гердой, и я снова поверил в ее ко мне чувства: она хорошо знала, как долго и упорно я не пишу свой роман „Говорящее ухо“. В конце концов, было принято решение, чтобы Виоло продолжил работу над названием.
Виоло выглядел окрыленным нашим решением, и мы были довольны.
Но ликовал он, не по тому поводу.
— Вы сами не представляете, — с горящими глазами, возбужденно обращался он уже только к Герде, — как вы гениально выправили мой убогий замысел! Очень уж Баха забивали его дети, и Моцарт с ними, как внебрачный сынок. Но он первый из всех услышал подлинного Баха еще в темперированном клавире — и пошел дальше, как бы самого себя то нагоняя, то перегоняя… Какой садовник привил его к этому могучему стволу, всем казалось, уже мертвого дерева! Именно в мессе они полностью и независимо слились, и как бы ни казалось трагично для Моцарта услышать впервые „Страсти“, он слышал уже свою музыку и ничью другую: он слился с нею, совпал, так и не испытав влияния своего предшественника, потому что Учитель у обоих оказался один и тот же.
— Смотрите, — отреагировал Уандей, — он уже скрестил свои оба романа! А как же Россини? Может, он бросил музыку, впервые услышав Моцарта?..
— Совсем бы было замечательно, кабы так… — вздохнул Виоло. — Тогда бы я объединил их воедино под названием „Три мессы“!
Итак, Уандей, Барли, Эрнест, Виоло, Герда, Мурито. Сикстет…
Хватит! Вдруг что-то кончилось. Что-то произошло.
Мурито получил внезапные известия с родины и должен был срочно нас покинуть, ненадолго.
Нам стало неинтересно говорить без протокола… Так мы объяснили себе исчезновение Виоло, хотя он объяснял это иначе: возвращением к своему проекту маленького отеля.
Он обещал вернуться сразу, как подыщет подходящее помещение.
Вдруг и у Герды нашлась убедительная причина нас покинуть: что-то в Польше.
Мы остались трое в одной лодке, под портретом Стерна, снова с теми же именами: Уильям, Джон и Эрнест. Нам стало грустно. И мы почувствовали, как же нам стало хорошо!
— А не дописать ли нам хоть что-нибудь? — изрек Уильям, и мы расхохотались.
Наверное, я единственный воспринял его шутку всерьез: я не понимал, с чего это я вдруг заторопился… но у меня вдруг стало получаться.
Я думал расправиться с этим редакторишкой из „Британники“ как с ничтожеством, вымещающим свои личные неудачи на репутациях великих людей, а получалось нечто совсем другое: справедливый и честный властитель, отягощенный властью, вершащий конечное меросердие (хорошая описка!) по отношению к замученным своими усилиями хоть что-то произвести в нашем мире творцам — борец с забвением, рыцарь бессмертия… я вдруг полюбил своего героя, и у меня пошло как по-писанному!
Не думаю, что и Джон с Уильямом изменили себе, как я, но стоило мне поставить точку, как разразилась литературная сенсация: неизвестный автор не то из Курдистана, не то из Пакистана опубликовал потрясший нашу критику роман „Убить Вольфганга!“
Он не постеснялся даже воспользоваться нашей анаграммой, амбициозно поставив над заглавием лишь одно имя — Мурито.
Звезда его взошла и не заходила: один за другим выходили романы „Евангелие от лукавого“, „Истории ХХ-х веков“… а мы все еще не могли осилить его роман о Моцарте.
Он был ужасен, этот интеллектуализм для бедных! Оказывается, это Сальери, скопив денег, переодевшись черным монахом и прикрывшись клобуком, сделал заказ Моцарту на Реквием, уже прекрасно рассчитав, что „Страсти“ Баха разорвут ему душу — надо только выждать момент, когда тот будет находиться в апогее, чтобы сразить его, как птицу в полете.