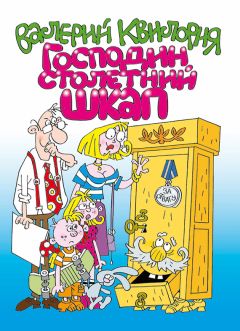Нагаи Кафу - СОПЕРНИЦЫ
— Что с тобой такое, простудилась?
— Ничего особенного, только в носу все болит нестерпимо. — Ее голос действительно отдавался в нос, нездоровым был и цвет лица.
Опустив голову, она сидела перед ним с удрученным видом. Годзана поразил силуэт её растрепанной прически цубуси-симада, отраженный тенью на бумажных створках шкафчика под алтарем, кое-где обрисовывались даже выбившиеся пряди. Грустное это было зрелище. Годзан начал разговор:
— Недаром говорят, что все наши болезни коренятся в душе — ты должна взять себя в руки. Я вот о чем хотел спросить: правда ли, что ты собираешься уехать в провинцию? Советов тебе давать не собираюсь, но не сделай неверного шага, подумай о последствиях. Буду говорить откровенно, мне в общих словах все уже известно. И про артиста из дома Хамамурая я тоже все знаю. Понимаю, почему ты решила уехать и зарабатывать на жизнь где-нибудь подальше отсюда, понимаю, что не можешь появляться перед людьми, когда другая отняла твоего мужчину. И вот об этом я хочу с тобой побеседовать. Ведь если тебе удастся сохранить лицо, то не нужно будет по своей воле ехать в глушь, верно?
Комаё, понурив голову, лишь кивала в ответ, а Годзан и сам не заметил, как перешел к интонациям, которые использовал, когда рассказывал чувствительные истории ниндзёмоно:
— Я, по правде говоря, только недавно узнал об этом, просмотрев твой контракт, ты ведь совсем одинока, ни родителей, ни братьев, — это верно? Пусть даже ты делаешь это, чтобы сохранить свое доброе имя, но ехать в глушь, где нет вокруг ни одного знакомого лица… Тебе там будет только одиноко, добрых всходов от этого не будет. А что, если, наоборот, остаться здесь, в этом доме, потерпеть какое-то время, хоть теперь тебе и тяжело? Ты ведь, конечно, тоже знаешь, какие у нас дела… Теперь, когда Дзюкити нас покинула, мне, мужчине, не под силу одному вести наш дом. Ну а сын… Даже если бы я и знал, где он, — он ведь тоже мужчина, ничего тут не поделать. Вот потому я и решил, если найдется подходящий человек, передать ему дом в полное владение. Сразу говорю, что речь не идет обо всей сумме целиком и нынче же. Ведь я теперь один, куда ни пойду, языком своим всегда прокормлюсь. Как бы ты, Комаё, посмотрела на то, чтобы разок попробовать потрудиться на славу и стать старшей сестрицей в доме «Китайский мискант»? Не хочешь ли постараться да и показать себя всем людям в квартале: мол, вот, смотрите! Что ты об этом думаешь?
Все, что сказал Годзан, было крайне неожиданно для Комаё, и что ей отвечать — она не знала. А Годзан, как все старики, не мог утерпеть и ждать ответа. Увидев, что Комаё особенно не возражает, он все решил сам:
— Старик в доме гейш ни к чему, только гасит искры любви, поэтому я собираюсь перебраться куда-нибудь по соседству. Только вот, Комаё, дом этот не наемный, к тому же я его десять лет назад перестроил. Площадь его десять цубо, и плата за аренду земли пять иен. Я с тебя возьму деньги за дом и использование нашего имени, сколько уж дашь. Договоримся, что только тогда возьму деньги, когда ты сможешь отдать. Ну а с домашними, прежде всего с Ханаскэ и с управительницей, я сам еще раз поговорю. Если вдруг им все это не понравится, отпущу их, пусть переселяются в другое место. Тогда ты начнешь все с начала, наберешь новых гейш и поведешь дело по-своему. Ты и не догадываешься, как меня этим облегчишь. Ну а если со временем ты вникнешь в дело поглубже и начнешь получать прибыль, тогда уж уплати мне, что сочтешь нужным, за имя заведения или еще за что… Ну как, Комаё, на этом и порешим?
— Хозяин! И то и другое — уж чересчур для меня хорошо, я не знаю, что и ответить.
— Вот потому я и подготовлю все сам. Но раз на словах мы договорились, у меня тяжесть с плеч упала. Попрошу тебя, ты уж прости: позвонишь массажисту, ладно? А я теперь в баню.
Со старым полотенцем в руке, Годзан отправился в баню, не взглянув больше на ошеломленную Комаё.
Комаё позвонила по телефону, а потом решила добавить углей в жаровню и тихо присела перед буддийским алтарем. Нежданно в груди её нахлынула то ли радость, то ли печаль, и, закрыв лицо рукавами, она какое-то время продолжала сидеть недвижно.
NAGAI KAFU
UDEKURABE
Copyright © Hisamitsu Nogai 1917
This book is selected by the Japanese Literature Publishing Project (JLPP) run by the Japanese Literature Publishing and Promotion Center (J-Lit Center) on behalf of the Agency for Cultural Affairs of Japan.
ПРЕДИСЛОВИЕ
Японский писатель Нагаи Кафу умер на восьмидесятом году жизни от прободения язвы желудка у себя дома, в пригороде Токио, 30 апреля 1959 года. Старого писателя обнаружила приходящая прислуга, он жил совсем один. На столе его лежал дневник, и последняя запись была сделана накануне: «29 апреля, выходной день, облачно». Этот дневник под символическим, похожим на ребус названием «Дантётэй нитидзё»[47] (один из вариантов перевода «Будни язвенника») Кафу начал писать 16 сентября 1917 года и вел больше сорока лет. В дни страшных бомбардировок Токио в 1945 году Кафу всегда носил дневник с собой в маленьком чемоданчике вместе с другими неопубликованными рукописями.
Кафу как будто бы предчувствовал, что его «Крашенная масляной краской обитель чудака», двухэтажный островок Европы в центре Токио, сгорит дотла. Вместе с домом погибла бесценная коллекция книг, рукописей и старых японских гравюр.
После войны писатель пережил настоящий бум популярности, его печатали, читали, обсуждали — как раз потому, почему начиная с 20-х годов он был в тени.
Кафу не мог принять агрессивного милитаризма и шовинизма, царивших в Японии предвоенных и военных лет. Он никогда не выступал против государственной политики открыто, да власти этого и не допустили бы, но он по-своему протестовал против подавления свободы личности, превратившись в «городского отшельника». В ответ на то, что цензура запрещала и калечила его тексты, он надолго замолчал, писал лишь дневники — и ни строчки в поддержку милитаристской пропаганды. Но прежде чем в 1921 году Нагаи Кафу объявил о своем уходе с литературной сцены, он пережил годы успеха, когда ему довелось быть одним из духовных лидеров своего поколения. Кафу профессорствовал в университете Кэйо, издавал литературные журналы, много печатался. Как раз на рубеже двух этапов в жизни писателя — самого яркого десятилетия литературной карьеры и последовавшего затем долгого периода работы преимущественно «в стол» — сорокалетним Кафу была написана повесть «Соперницы», перевод которой помещен в этой книге.
Из упомянутого выше дневника «Будни язвенника» мы знаем, что отдельное издание повести «Соперницы» Кафу закончил готовить к печати 13 ноября 1917 года. До этого повесть с августа 1916 года по октябрь 1917 года публиковалась в журнале «Буммэй» (в переводе — «Цивилизация»).
Повесть, законченная японским писателем той самой осенью 1917 года, которая так много значила для России, далека от политики, как мировой, так и японской. Если имена влиятельных политиков своего времени и упоминаются в ней, то исключительно в связи с их мужскими успехами в мире гейш. Ведь повесть посвящена именно гейшам, и буквальное её название «Удэ курабэ» («Кто сильнее?») может быть истолковано как метафора извечной войны полов и ревнивого соперничества женщин-артисток, то есть гейш, за успех у мужчин и у публики.
«Соперницы» — это, пожалуй, самое яркое во всей японской литературе описание быта гейш «эпохи электричества и телефонов». Нагаи Кафу дает почти документальный социологический очерк характеров и нравов токийского района Симбаси, ставшего в начале XX века главным местом обитания этих певиц, музыкантш, танцовщиц, которые развлекали во время банкетов и неофициальных встреч политическую и деловую элиту страны.
Нагаи Кафу отлично знал своих героинь в жизни — некоторое время он был женат на знаменитой гейше, учился вместе с гейшами традиционной музыке и ко времени публикации повести «Соперницы» написал уже немало рассказов о гейшах. До последних дней своей долгой жизни Кафу оставался завсегдатаем мира развлечений, но гейши были для него не только самыми лучшими собеседницами и не только самыми желанными женщинами. Он видел в них хранительниц особого пласта японской городской культуры, а себя ощущал наследником многовековой традиции, певцом «мира ив и цветов», как называли в Китае и Японии увеселительные кварталы.
В то же время, и это было ново для японской культуры, Нагаи Кафу ставил своих героинь в один ряд с теми «дамами полусвета», о которых писали Золя и Мопассан, его любимые французские авторы. Интерес к эротике, к биологическому началу в человеке, свойственный французскому натурализму, нашел в Японии благодатную почву и в творчестве Нагаи Кафу проявился многообразно и ярко.
Пожалуй, самым метким определением творчества Нагаи Кафу является характеристика, данная ему современниками: «Метис, рожденный от Сюнсуй и Мопассана». Если имя французского писателя Ги де Мопассана, скорее всего, не требует пояснений, то имя Тамэнага Сюнсуй не столь известно русскому читателю.[48] Живший в начале XIX века писатель Тамэнага Сюнсуй создал жанр сентиментального любовного романа, предназначенного прежде всего женской аудитории. Героинями книг Тамэнага Сюнсуй были «работающие женщины» японского города — сказительницы баллад, гейши, парикмахерши. Они влюблялись, ревновали, жертвовали собой во имя любви. А романтическими героями были художники, поэты и артисты — такие, как сам автор, Тамэнага Сюнсуй. Шумный успех этих книг повлек за собой их запрет — власти усмотрели в них угрозу нравственности. Лишь спустя полвека, уже после свержения сёгуната Токугава, в 70 — 90-е годы XIX века, книги Тамэнага Сюнсуй вновь обрели своего читателя.