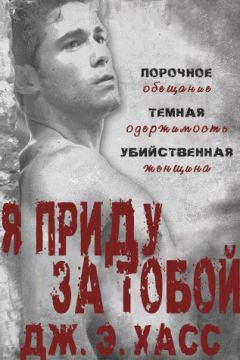Тибор Дери - Воображаемый репортаж об одном американском поп-фестивале
Больнее всего в эти минуты Эржебет ощущала безмолвие животного — не только голосовых его связок, но безмолвие всего его существа. Собака не стонала, не злилась, не упрекала, не требовала объяснений, убедить ее было нельзя: она молча смирялась с судьбой. Это безмолвие, сходное с роковой немотою сломленного душой и телом раба, представлялось жене Анчи громовым протестом самого бытия. Никогда не прозревала она с такой мучительной ясностью трагедию подчиненности и беззащитности животного, как в эти минуты, когда с сумкой в руке оглядывалась от двери на неподвижно лежавшую посреди передней безмолвную собаку, которая, уткнув голову в передние лапы, снизу смотрела ей в лицо. Как объяснить этому олицетворению смертной тоски, что она идет всего-навсего на рынок и через час будет дома с провизией? Или только забежит в трикотажную мастерскую на площади Фердинанда или в одно из ее отделений на улице Турзо и непременно вернется домой еще до полудня? Как объяснить, что однажды инженер, быть может, тоже вернется, пусть не к полудню, а хотя бы лет десять спустя? Повторяю, для собаки было словно бы все едино, оставляют ее хозяева на час или на год, — они отсутствовали, вот и все, она же от этого едва не задыхалась. Она испытывала ежеминутную, сиюсекундную потребность в их присутствии, которое впитывала каждой клеточкой своего тела, которое было ей необходимо как воздух.
Ники порадовалась бы — если бы ей сообщили, — что хозяин ее жив и теоретически вполне возможно, что однажды она его снова увидит. Но и хозяйка не могла бы сказать ей, когда это произойдет; судебного разбирательства по его делу не было, а следовательно, не было и приговора. Долгих полтора года после того первого известия Йедеш-Молнар ничего нового об инженере не узнал. Но и позднее, когда Эржебет уже разрешили — один раз в три-четыре месяца — навещать мужа в пересыльной тюрьме, у нее не было никакой возможности, вернее, способа рассказать об этом собаке. А Ники бы это пришлось очень кстати.
Мы ни в коем случае не решимся сделать поистине непристойное предположение, что животное, например собака, будто бы способно соревноваться с человеком в верности или иных суровых испытаниях любви, а посему все ухудшавшееся физическое и душевное состояние Ники, явно преждевременное ее старение ни за что не приписали бы ее тоске по своему хозяину; на наш неизменно неуверенный взгляд, это следует отнести исключительно за счет неважного качества пищи и недостаточности движения. Да и вообще, с чего бы пятилетняя, достигшая цветущего возраста, сильная, здоровая сука, обладающая неисчерпаемым запасом физических сил, стала худеть и терять шерсть по той лишь причине, что человек с приятным запахом, которого она признала своим хозяином, с некоторых пор исчез с ее глаз? Ники требовалось больше движения, более витаминная пища, другая, более жизнерадостная атмосфера, и жена инженера, в силу все того же пресловутого чувства ответственности старалась, насколько могла, все это ей предоставить. С тех пор как Эржебет убедилась, что муж ее жив, она больше гуляла с Ники, чаще с нею разговаривала, стараясь и ей передать свое чуть-чуть приподнятое настроение. У нее не было денег на покупку мяча, поэтому мяч она заменяла каким-нибудь камнем. Начиная с лета 1952 года, когда здоровье ее несколько поправилось, она по крайней мере час-полтора в своем расписании уделяла собаке: для прогулки по набережной она использовала обычно время своего послеобеденного отдыха. Ровно в два часа, с точностью до минуты, словно где-то в ее нервных ушах притаился часовой механизм, Ники поднималась со своей подстилки и садилась у ног хозяйки. Если Эржебет по какой-либо причине медлила, занявшись, например, починкой своего белья, собака, немного подождав, вставала на задние лапы, а передними, как бы напоминая, изящно касалась руки хозяйки, после чего снова садилась возле ее скамеечки для ног. Если время шло бесполезно и безрезультатно, без всякого разумного смысла, она повторяла свой знак, когда же и это не помогало, начинала очень громко и очень насмешливо зевать. Мы говорим — насмешливо, выражая этим словом скорее впечатления жены Анчи, нежели наше собственное, по обыкновению неуверенное мнение; животные, судя по всему, не ведают сей злокозненной игры духа, какой развлекаются, кажется нам, лишь недоброжелательные, низкие натуры. Нас укрепляет в таком суждении и то обстоятельство, что Ники после так называемого насмешливого своего зевания тотчас задаривала хозяйку неоспоримыми доказательствами любви. Встав на задние лапы и положив голову ей на колени, она долго сопела, не сводя глаз с ее лица. В этой неудобной позе оставалась иной раз по четверти часа, купаясь в любовном тепле тела хозяйки и отдавая в обмен ее бедру жаркое и быстрое биение своего верного сердца и время от времени производя негромкий гортанный звук, так как колени хозяйки слегка сдавливали ей горло, стесняя дыхание. Эржебет изредка ласково гладила Ники по голове, а та в знак благодарности страстно крутила хвостом с тремя длинными, торчащими из обрубка белыми шерстинками. Единственной оставшейся ей радостью жизни — прогулкой и игрой (погоней за брошенным камнем) — она безропотно жертвовала за мимолетную ласку. Это была чувствительная собака.
Когда задние лапы затекали от долгого стояния, Ники опять садилась к ногам хозяйки, возле ее скамеечки. Время было послеобеденное, Ники погружалась в дрему. Известно, что собаки, как Наполеон, могут спать когда угодно и где угодно. Забавно было наблюдать, как сон медленно забирал над ней силу — в точности то же происходит и с засыпающим сидя человеком. Ники начинала моргать, голова опускалась все ниже, потом падала ей на грудь. От резкого толчка она приходила в себя, опять вскидывала голову и устремляла на хозяйку блестящие черные глаза. Так продолжалось некоторое время, потом Ники снова начинала моргать, а голова подрагивала и опускалась, веки то и дело смежались, и вот уже в глазницах под белыми ресницами виднелась снизу только узенькая черная полоска. А Ники, словно покорившись судьбе, вздыхала, ложилась на бок и, вытянув все четыре лапы, засыпала.
* * *
Но если в конце концов Ники все же оказывалась на набережной, жизнь вливалась в ее исхудавшее тело таким сильным и щедрым потоком, что, казалось, и не умещалась уже под редеющей, с пролысинами шерстью. И тогда Ники нынешняя отличалась от прежней юной Ники лишь тем, что быстрей уставала и желала больше чем могла. Она играла бы до заката, вообще не бросила бы игры, если бы ее мышцы, сердце и легкие не отставали от ее стремлений. Едва они выходили к Дунаю и Эржебет нагибалась, чтобы поднять камешек, как набережная чуть не вся из конца в конец заполнялась вездесущим стремительным белым образом Ники, ее резким оглушительным лаем. Она одна создавала такое движение, и столько было в ней веселого азарта, что прохожие с верхнего яруса перегибались через перила и, кто смеясь, кто раздраженно, наблюдали за шумным представлением. Ради истины мы вынуждены с горечью заявить, что в те времена мрачно настроенных наблюдателей было больше, нежели веселых: отмена карточной системы, сопровождавшаяся значительным повышением цен и постепенным снижением жизненного уровня, уже довольно давно ожесточала людей. Замечания в адрес «предмета роскоши» чаще дышали злобой, и не раз слышались глубокие соображения вроде: «Люди голодают, а у этих и на собаку хватает» — или вопросы: «Интересно, чем они кормят свою собаку — пражской ветчиной или кашшайской?» Однако Эржебет Анча, которая раньше всячески старалась быть незаметной, не привлекать внимания к своей персоне, тут, подобно классическим матерям, не остановилась бы даже перед кровавым жертвоприношением ради своей собаки. Почему бы и нет? Ее совесть была чиста.
Эржебет наклонялась, поднимала камешек. В тот же миг и с тою же быстротой, с какой хозяйка вскидывала руку для броска, Ники взвивалась вверх, словно хотела схватить камень еще в воздухе, затем, перевернувшись вокруг своей оси, вновь падала к ее ногам. Пока камень был в руке хозяйки, Ники скакала и вертелась в воздухе волчком и только тогда опускалась опять на все четыре чуть-чуть длинноватые лапы, когда камешек наконец вылетал из руки, описывая высокую дугу. Эржебет Анча, как большинство женщин, увы, бросок делала плечом, а не запястьем и локтем, так что камешек летел метров десять — пятнадцать, не больше; расстояние смехотворное, Ники оно было что семечко разгрызть. Короткий, резкий, с задышкою, охотничий лай, и она уже настигала добычу, чуть скособочась, положив голову на мостовую, осторожно брала ее в зубы и веселой трусцой несла к ногам хозяйки. Та наклонялась и снова его бросала.
Разумеется, дело оборачивалось по-другому, если игру, то есть камень, брал в руки мужчина, например сосед Эржебет Анчи, второй квартиросъемщик, механик с завода электроприборов Ганца (позднее имени Клемента Готвальда), который вскоре после переезда в нарушение всех обычаев и традиций жильцов коммунальных квартир подружился с тихой, грустной женщиной, а следовательно, и с ее собакой и иногда по вечерам вместе с женой сопровождал их на набережную, собственной персоной опровергая широко распространившийся в Пеште предрассудок, будто люди не способны ужиться вместе. Этот невысокий рабочий в очках, даже оказавшись соквартирантом, каким-то чудом не превратился ни в кровожадного тигра, ни в питающуюся падалью гиену и не только не душил соседку по ночам голыми руками, но время от времени зазывал ее к себе на стаканчик вина, а Ники — на горстку обглоданных телячьих косточек из заводской столовой и вообще разговаривал с ними человеческим голосом и на обычном венгерском языке. Иногда он спрашивал, нет ли вестей от мужа, и, если вестей не было, старался приободрить соседку, а после того не подвергал дезинфекции ни язык свой, ни руки и, однако же, на следующее утро в добром здравии подымался с кровати. В своей отваге, которую мы в мужчине столь малорослом и к тому же очкарике, право, назвали бы вызывающей, механик дошел до совершенной уже наглости — стал рассказывать об этой женщине у себя на заводе и даже как-то спросил секретаря парторганизации, можно ли во имя социализма осуждать на голодную смерть ни в чем не повинную женщину.
![BlackSpiralDancer - Unwritten [СИ]](/uploads/posts/books/no-image.jpg)