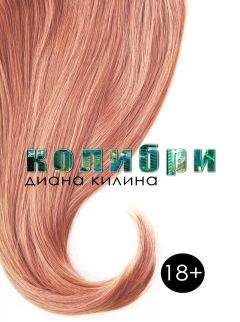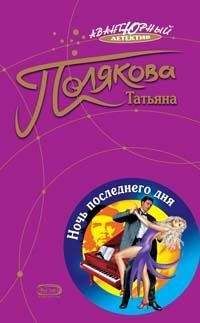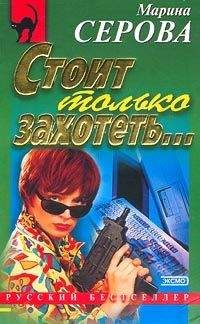Даниэль Кельман - Магия Берхольма
Спустя два месяца я уехал из монастыря. Жизнь между тем шла дальше, неизменная, разнообразная и беззаботная, какой она, вероятно, останется и после моей смерти. (Утверждают, что это так, но я не верю.) Люди убивали, стремились разбогатеть, несли убытки, выигрывали войны и терпели поражения, самолеты поднимались в воздух и разбивались, корабли уходили в море и тонули. Появилось что-то более важное и любопытное, чем я. Суета улеглась.
Сначала я вызвал к себе Вельрота и ассистентов. Они явились. Вельрот выглядел скверно: лицо в красных пятнах, стекла очков запотели. Трое остальных обрадованно смотрели на меня.
– Мы так рады вас видеть! – сказала Джина. – Мы за вас беспокоились.
– Где вы были все это время? – тихо спросил Вельрот. – Вы знаете, что… мы разорены? Вы знаете, что мне пришлось вынести? Вы знаете…
– Знаю, – ответил я, – и сожалею об этом. Правда. Я благодарен вам за все, что вы сделали. Ваши усилия оказались бесплодными, но не по вашей вине. Вам было нелегко, и вы достойны работать с кем-то получше. Позвольте вас обнять, если не возражаете.
Он удивленно кивнул, и я в самом деле его обнял. Это было довольно неприятно, тем более что от него пахло дешевым одеколоном. Но я был обязан хотя бы раз проявить по отношению к нему теплые чувства. Пережив это, я обратился к остальным.
– Пауль, Йозеф, Джина! – начал я. (Я не ошибся? Так ли их звали? Да, точно; я предварительно проверил.) – Некоторые удивительные трюки не состоялись бы без вашего участия. Вы почти всегда хорошо выполняли то, что входило в ваши обязанности. Если один из вас намерен и впредь заниматься этим ремеслом, он многого достигнет, ведь в конце концов вы были моими учениками. – Я откашлялся и сделал глубокий вдох. – Верно служившие мне духи, я вас отпускаю. Оковы спали, я больше не нуждаюсь в вас. Я отпускаю вас на волю. Вы свободны!
Это произвело определенное впечатление. Джина, оцепенев, уставилась в пол, Пауль (или Йозеф?) побледнел, Йозеф (или Пауль?) тихо зарыдал. Я медленно и как можно более торжественно подошел к нему и протянул руку. Он схватил ее и безмолвно потряс. Потом я выписал каждому из них чек на крупную сумму, и они смущенно ушли.[43]
– Вы мне еще нужны, – сказал я Вельроту. – Еще один раз. Вы должны составить от моего имени заявление для прессы.
– Ваше прощальное заявление?
– Да. Скажите, что больше я выступать не буду. Это окончательно и бесповоротно. Пожалуйста, не будем это обсуждать.
Он печально улыбнулся:
– Не будем. Но позвольте мне по крайней мере спросить почему?… Добившись такого успеха! Вы достигли не совсем того, к чему стремились?
Этот вопрос напомнил мне что-то, и я ощутил холодную дрожь.
– Нет, Вельрот, к сожалению, нет. Я не достиг ничего из того, о чем мечтал. Когда-то я едва не стал священником, вы знаете об этом? Да, знаете. Я занимался Паскалем, взаимоотношениями чисел и веры. Потом я захотел стать магом, по тем же причинам. Но предметы перестали мне повиноваться. Наверное, я еще мог бы выступать в телешоу и показывать фокусы с кроликами, голубями и цилиндрами. Но я этого не хочу. Понимаете?
– Нет.
– Тогда я сформулирую иначе. Вы считаете меня художником?
Он, чуть помедлив, кивнул:
– Если угодно, я считаю вас художником. Да. Да, конечно. Вы художник.
– Но ведь говорят, что художники должны делать то, без чего они не в силах обойтись. Они пленены своим искусством, они просто не могут иначе и не могут его бросить. Правильно?
– Да, – ответил он с надеждой, – правильно. Совершенно правильно!
– Нет, неверно. Совершенно неверно. Я могу все это бросить. Я не чувствую необходимости продолжать. Я вполне могу от всего этого отказаться. Вам этого достаточно?
Он снял очки и какое-то время рассматривал их.
– Как вам будет угодно. Я больше не буду задавать вопросов. Скажите мне только, что должно быть написано в заявлении для прессы?
На следующий день мое имя и мои портреты еще раз, уже в последний раз, появились в газетах. На меня обрушились звонки, всевозможные вопросы, предложения, но я был недосягаем. Меня охраняли фасад роскошного отеля и его вышколенные служащие за стойкой регистрации. Мне вдруг подумалось, что этот роскошный номер и моя каменная келья в Айзенбрунне – почти одно и то же. Все различия относились к акциденциям, а не субстанции.[44] Иногда, чаще всего ночью, мне казалось, будто это одна коварная комната, она просто притворяется двумя разными, устраивает маскарад. Казалось, кто-то надо мной издевается…
Однако спустя недолгое время я вновь смог выходить. Все произошло быстро. Все смирились с тем, что я пропал, моя слава померкла, да и вообще меня, кажется, уже не было среди живых. На улице меня все еще ощупывали любопытные и скептические взгляды, но и они становились все реже. Разумеется, я этого хотел; сетовать на это было бы ребячеством. И все-таки я был удивлен тем, как быстро меня забыли.
Моя квартира ждала меня, белая и светлая. На автоответчике скопились двадцать или больше сообщений; я вынул кассету и, не прослушав, выбросил в мусорную корзину. А за окном поблескивала телебашня.
Как я о ней вспомнил? Не знаю, она просто всегда была здесь, рядом со мной. Она возвышалась над большей частью моей жизни, спокойно стремясь передать одно и то же неизменное послание. Она вздымалась в небо, прохладная и серебристая, поблескивающая, как стальной клинок. Говорят, там, наверху, есть терраса. Наверное, у нее есть край, а ограждение, возможно, не очень высокое. Со странным, исполненным томления ужасом я смотрел на нее, подняв голову. Потом я отправился в путь.
Путь, который я теперь могу пройти с закрытыми глазами; я знаю каждый поворот, каждый перекресток, каждую ступеньку. Целый месяц я преодолевал его день за днем, весь полный, круглый, светлый от лепестков май. И всегда пешком. И всегда с черной почтенной папкой под мышкой. Лифтер меня уже узнает, каждое утро он приветствует меня едва заметно, робко улыбнувшись уголком рта. Я всегда поднимаюсь на лифте и только однажды, следуя бог весть какому озарению, взошел по лестнице: множество одинаковых, вытертых до блеска ступеней, спиральным движением вращающихся вокруг каменной средней оси. Еще не конец? Еще идти и идти! Наконец, потный, задыхающийся, в прилипающей к телу одежде, я добрался до цели. А зачем? За целый день я не написал тогда ничего разумного, только грыз шариковую ручку и предавался путаным и усталым мыслям. С тех пор – только на лифте.
Официанты тоже меня узнают. Они оставляют для меня столик, выполняют мои заказы несколько быстрее, чем прочие, и сопровождают мое появление и уход улыбками и поклонами. Чудеса могущественны, но чаевые еще сильнее. Может быть, они догадываются, зачем я здесь? Они видят, что я пишу; но писать можно всюду, даже они не могут этого не знать. Никто, кроме меня, не приходит сюда каждый день; наверное, они все-таки удивляются… Но нет, они ничего не знают. Даже не догадываются. Это исключено, этого не может быть. А если бы у них появилась хотя бы тень предчувствия, она лишила бы их сна и наполнила их ночи ужасом. Они не смогли бы зарезервировать мне столик, они не смогли бы улыбаться! Слуги в ливреях и галстуках-бабочкой, в тряпье с золотыми пуговицами, ради ваших гладко причесанных душ я надеюсь, что вы глупы! Идиоты, а пожалуй, и слабые могут надеяться на милосердие Божие. Но только не равнодушные!
И так я писал. И если дело затянулось и стопка бумаги в голубую линейку, сплошь в черных каракулях, в коричневых пятнах кофе, совершенно ненужная, высоко передо мною взгромоздилась, то, вероятно, лишь потому, что каждая строка дарила мне еще несколько минут, каждая глава – еще несколько дней. Нет никого, кто и в самом деле по-настоящему силен. Так почему же именно мне не дорожить жизнью? Она возвышенна и чудесна. В ней так много неба, и высокие мраморные облака, и солнце, и луна, и земля со всеми ее людьми там внизу. Я бы хотел остаться. Много чем можно было бы заняться, пусть даже пустяками, и, даже если бы я ничего не делал, я все-таки жил бы и смотрел, слышал, дышал, ел… Но это химеры. Я прожил недолго, поэтому и эта рукопись не могла растянуться до бесконечности; она не могла довести меня до мирной старости и тихой кончины. И вот она заканчивается, я сижу здесь, склонившись над рукописью, с чашкой кофе под локтем и пишу о том, как я сижу здесь, склонившись над рукописью, с чашкой кофе под локтем. Я догнал самого себя. На этих страницах я вижу только узкое, остановившееся, замершее настоящее. Все уже сказано. Это конец.
Я оглядываюсь. Блестящие столики, не покрытые скатертями, и вполголоса переговаривающиеся, жующие люди. (Видишь женщину, там, за моей спиной? Толстого мальчишку? Мужчину с фотоаппаратом? И все эти черные очки?) Подо мной город. Игрушечные домики и фабрики, как модели из детского конструктора, трубы с живописно нанизанными на них клубами дыма. В реке отражается солнце. Поблескивают машины. И повсюду столько света.