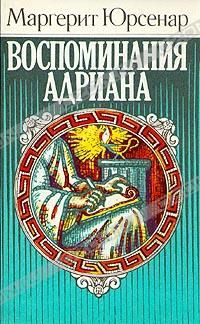Маргерит Юрсенар - Воспоминания Адриана
Я издавна любил легенды о любовных похождениях богов и об их распрях, предпочитая их тяжеловесным пересудам философов о божественной сущности; я согласился бы стать земным отражением Юпитера, ибо он представлялся мне тем более богом, что был живым человеком, держителем вселенной, воплощением правосудия, порядка вещей, любовником Ганимедов и Европ, небрежительным супругом горестной Юноны. Мой ум, в тот день настроенный все видеть в ясном, лишенном теней свете, сравнивал мою жену с этой богиней, которой во время моего недавнего посещения Аргоса я пожертвовал золотого павлина, украшенного драгоценными камнями. Я мог бы избавиться от этой нелюбимой женщины, разведясь с нею; будь я частным лицом, я сделал бы это без малейших колебаний. Но она меня почти не стесняла, и ничто в ее поведении не давало мне повода публично ее оскорбить. Будучи молодою женой, она возмущалась моими уклонениями от обязанностей супруга, но ее более всего, почти так же, как и ее дядю, раздражали мои долги. Как и большинству тех женщин, что мало чувствительны к любви, ей было недоступно понимание власти, которой обладает любовь; это неведение исключало в ее отношении ко мне как снисходительность, так и ревность. Она стала бы тревожиться лишь в том случае, если ее почетные звания или безопасность оказались бы под угрозой, но я не давал для этого повода. В ней уже не осталось и следа той девичьей грации, которая когда-то ненадолго меня привлекла; эта до срока состарившаяся испанка стала с возрастом неповоротливой и угрюмой. Меня радовало, что холодность помешала ей завести любовника, и было приятно, что она с достоинством носит покровы матроны, которые выглядели почти как покровы вдовы. Мне даже нравилось, что профиль моей супруги изображен на римских монетах, с надписями на обороте, прославлявшими то ее Целомудрие, то ее Спокойствие. Невольно вспоминался тот фиктивный брак, что был заключен в вечер Элевсинских празднеств между великой жрицей и гиерофантом, брак, который не был ни союзом, ни даже просто условным общением, но был ритуалом и по этой причине – актом священным.
Ночью, последовавшей за этим торжеством, я смотрел с высокой террасы, как пылал Рим. Эти ликующие огни не уступали тем пожарам, которые зажег Нерон; они были почти так же грозны. Передо мной лежал Рим – горнило, печь, но также и кипящий металл; молот, но также и наковальня – наглядное свидетельство того, что в истории вечно переплетаются концы и начала; одно из тех мест, где жизнь человеческая проявляется наиболее бурно. Трагический пожар Трои, из которого ускользнул беглец, забрав с собою дряхлого отца, юного сына и ларов, завершался в тот вечер праздничными огнями158. Со священным ужасом я представлял себе грандиозные пожары грядущего. Миллионы жизней, прошлых, настоящих и будущих, сооружения, недавно рожденные от древних сооружений и предшествующие тем, которым еще только предстоит родиться, проходили перед моим мысленным взором как волны; по чистой случайности этот великий прибой разбивался в ту ночь у моих ног. Не буду останавливаться на тех мгновениях восторга, когда императорская багряница, священное одеянье, которое я так редко соглашался носить, была наброшена на плечи создания, обещавшего стать моим гением; мне не только хотелось оттенить эту пурпуровую густоту золотым свеченьем волос, но, самое главное, заставить свое Счастье, свою Фортуну, существа зыбкие и неверные, воплотиться в земную форму, обрести теплоту и успокоительную тяжесть плоти. Прочные стены Палатинского дворца, в котором я так мало жил, но который я недавно перестроил, светились, точно борта корабля; драпировки, раздвинутые для того, чтобы впустить римскую ночь, были полотнищами балдахина на корабельной корме; крики толпы – шумом ветра в снастях. Огромный подводный риф, маячивший в туманной дали, – гигантские опоры моей гробницы, которую начинали уже возводить на берегах Тибра, – не вызывал во мне ни ужаса, ни сожаления, ни суетных мыслей о быстротечности жизни.
Понемногу все высвечивалось иным светом. Уже более двух лет ход времени отмечался поступательным движением юности, которая формировалась, зрела, восходила в зенит: мужал голос, привыкавший покрикивать на лоцманов и егерей; длинней становился шаг бегуна; ноги всадника увереннее подчиняли себе коня; школьник, который в Клавдиополе зубрил на память большие отрывки из Гомера, приохотился к поэзии причудливой и сладостной, увлекался пассажами из Платона. Мой юный пастух становился молодым принцем. Это уже не был услужливый мальчик, который спешил на привалах спрыгнуть с коня, чтобы принести мне в ладонях ключевой воды; даритель знал теперь цену своим дарам. Во время охот, устраивавшихся во владениях Луция в Этрурии, я получал удовольствие, любуясь этим прекрасным лицом рядом с тяжеловесными и озабоченными физиономиями сановников, рядом с заостренными чертами сынов Востока и толстыми рожами охотников-варваров; я приучал своего любимца к трудной роли друга. В Риме вокруг Антиноя плелись низкие интриги, кое-кто пытался обратить его влияние себе на пользу или занять его место. Углубленный в собственные мысли, этот восемнадцатилетний юноша отличался равнодушием – достоинством, какого не хватает порой мудрецам: он умел пренебрегать всей этой возней или просто не замечать ее. Но в уголках его красивых губ обозначилась горькая складка, что было отмечено скульпторами.
Здесь я даю моралистам возможность легко меня уязвить. Мои критики готовы представить мое несчастье как следствие ошибки, как результат злоупотребления; мне трудно их опровергнуть, ибо я плохо понимаю, в чем состоит эта ошибка и в чем заключается злоупотребление. Я пытаюсь свести свой проступок, если это вообще можно считать проступком, к его истинному значению: я говорю себе, что самоубийство – случай не столь уж редкий и что в двадцать лет умирает довольно много людей. Смерть Антиноя – трагедия и катастрофа лишь для меня одного. Не исключено, что это несчастье было непосредственно связано с той избыточной радостью и с тем накопившимся опытом, в которых я никогда бы не хотел отказать ни себе самому, ни моему товарищу по опасности. Даже мои угрызения совести сделались постепенно горькой формой собственничества, способом уверить себя, что я до конца был печальным хозяином его судьбы. Но я знаю также, что нужно считаться с волею того прекрасного незнакомца, каким, несмотря ни на что, всегда остается для нас близкое существо. Принимая всю вину на себя, я низвожу молодого человека до роли восковой статуэтки, которую я сперва вылепил, а потом сам же и смял в своих пальцах. Я не имею права умалять значение того странного и с подлинным мастерством исполненного акта, каким явился его уход; я должен признать за этим мальчиком заслугу собственной смерти.
Мне не надо было ждать появления в моей жизни Антиноя, чтобы ощутить себя богом. Однако сопутствовавшая мне удача вскружила мне голову; казалось, сами времена года соревновались с поэтами и музыкантами моей свиты, превращая нашу жизнь в сплошной олимпийский праздник. В день моего прибытия в Карфаген кончилась пятилетняя засуха; обезумевшая от радости толпа, стоя под ливнем, бурно приветствовала меня как дарителя божественных благ; теперь предстояло, пользуясь небесными щедротами, продолжить великие работы в Африке. Незадолго до этого, во время короткой остановки в Сардинии, гроза заставила нас искать убежища в крестьянской хижине; Антиной помогал нашему хозяину поворачивать запекавшиеся над огнем куски тунца; я ощущал себя Зевсом, который в компании с Гермесом посетил Филемона. Юноша, сидевший, подобрав ноги, на кровати, казался мне Гермесом, развязывающим сандалии; виноградная гроздь была сорвана Вакхом, он же протягивал мне чашу розового вина; его пальцы, загрубевшие от тетивы лука, были пальцами Эрота. Среди всех этих преображений, за очарованием всех этих славных имен, я порой забывал, что передо мной был самый обыкновенный человек, мальчик, который безуспешно пытался овладеть латынью и просил инженера Декриана давать ему уроки математики, но потом сам от них отказался и который в ответ на малейший упрек убегал на нос корабля и, сердито насупившись, глядел в море.
Поездка по Африке завершилась в только что выстроенных, залитых жарким июльским солнцем кварталах Ламбезы; мой спутник с детским восторгом надел военные латы и тунику; я же стал на несколько дней Марсом – с обнаженным торсом и в каске, я принимал участие в военных упражнениях, я ощущал себя атлетом Гераклом, опьяненным собственной – молодой – силой. Несмотря на жару и на тяжелые земляные работы, законченные к моему приезду, армия действовала с чудесной слаженностью; приказать какому-нибудь бегуну преодолеть лишнее препятствие, заставить какого-нибудь всадника выполнить лишнее упражнение означало бы повредить маневрам, нарушить точное равновесие сил, составляющее красоту учений. Я смог указать командирам лишь на одну-единственную, незначительную ошибку, когда кони были оставлены без прикрытия во время учебной атаки в открытом поле; я был доволен префектом Корнелианом. Разумный порядок чувствовался в движении этих людских масс, тягловых животных и представительниц варварских племен, которые, в окружении пышущих здоровьем детей, подходили к лагерю, чтобы поцеловать мне руки. В этой покорности не было раболепия; я видел в ней поддержку своей программы безопасности границ; сейчас нельзя было останавливаться перед затратами, нельзя было ничего упустить. Я поручил Арриану написать трактат по тактике, выверенный и точный.