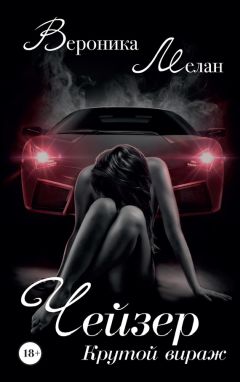Ольга Трифонова - Запятнанная биография (сборник)
Спросила, когда снимала со спины горчичники. Очень широкая спина, много на ней листочков уместилось. Очень широкая шея, багровая от самого главного горчичника.
Агафонов молчал. Я повторила вопрос.
— Не будет, не будет, — неожиданно раздраженно ответил он, — не бойся. Но вообще-то с кем-нибудь посоветуйся на будущее.
Агафонов не стал удерживать меня. Ему хотелось остаться одному, хотелось вернуться в постель и уснуть. Он без конца зевал прерывисто, широко раскрывая рот. Поблескивали золотые коронки. И хотя я тогда не знала еще, что такая зевота — признак сердечной болезни, не обиделась. У него было бледное, опавшее лицо, даже нижние веки как-то оттянулись, сделав его похожим на Таниного сенбернара.
Простились неловко, торопливо, избегая смотреть друг на друга. Лифт тянулся вверх томительно-долго.
— Ты позвони завтра, — сказал в последний момент, когда уже открыла решетчатую дверь.
Была мысль успеть на метро, сэкономить десятку, которую сунул неловко «на дорогу». На эту десятку завтра могла бы купить новые колготки. Стрелки часов на пустынном проспекте вселили ужасный страх. «Что будет дома?!» и «Со мной произошло непоправимое!».
Подъезжать к подъезду не стала. Вдруг мама на улице поджидает, с нее станет, а я на такси. Решила проскочить двором.
Темнота, светятся зловещим предупреждением лишь наши окна, и Танино багрово, потому что шторы задернуты.
«Ах, если бы можно было сейчас к ней! Как я этого хочу! В дом, где месяцами не вытирается пыль. Где повсюду разбросаны хорошие книги. Где можно обо всем… Где свобода. Почему у меня нет свободы, почему я так завишу от всех. Почему сердце сжимается страхом. Ведь я же иду в родной дом…»
Что это? В углу прислонилась маленькая темная фигура.
Что это? Чьи-то рыдания.
Мне нет дела, мне надо скорее домой.
— Вам плохо? Вам помочь?
И когда подошла, узнала нелепую, до пят расшитую афганскую дубленку.
— Таня! Танечка, что случилось? Почему ты здесь, почему плачешь?
Прижалась лбом к водосточной трубе, плечи трясутся.
Я оттаскивала, умоляла: «Идем, я тебя отведу, ты все расскажешь».
Вдруг повернула бледное узкое лицо с огромными глазами:
— Мне некуда идти, там он с… с женщиной, попросил ключи. Я дала и даже наврала, что вернусь в два.
— А сейчас сколько?
— Не знаю.
У нее тоже нет часов, и нам некуда идти. Я не могу ее позвать к себе, я не могу ее бросить. Мы бездомные. Но мне надо хотя бы показаться. Мне жалко маму. Какой Лыска негодяй!
Оказывается, сказала это вслух, и Таня вдруг фыркнула на «Лыску» — подпольную, только нашу, кличку Валерия.
Вытерла лицо белыми космами меха, свисающими с рукава.
— Ты иди. Два уже есть, наверное. Могу возвращаться.
— Ты давно здесь?
— Не знаю.
— Но во сколько ты ушла из дома?
— В восемь.
— А где была?
— У Гули.
Гуля — ее кумир. Живет где-то на Преображенской, поддает немного и тоже пишет стихи. Таня знает их все наизусть, считает Гулю гениальной.
Меня всегда поражала ее истинная, без тени самоуничижительного кокетства, любовь к стихам другой женщины.
— Ну почему она лучше тебя? — допытывалась я. — Что она, умнее, образованнее, работает больше?
— Она не лучше, она талантливее.
— Но разве ты не талантливая?
— Не знаю. Но она талантливее.
— Почему же ты не осталась у нее ночевать?
— Не важно, — Таня скривилась раздраженно.
У Тани — любовь к страданиям. Неукротимая, дошедшая до последнего предела — страшных, физических мук. Судьба ответила благосклонно, подарила мучения адские, жар, ломоту в костях, больничную палату.
Один раз сказала страшное: «Я не боюсь страданий. Они нужны. Никогда не бойся их».
Зачем нужны?
После ее смерти остались стихи. Я носила их в редакцию.
Седая женщина в очень сильных очках сказала, возвращая папку:
— Это очень хорошие стихи, но в нашем журнале их не напечатают. И ни в каком другом.
— Почему?
— Есть поэзия, для которой должно наступить ее время. Как, впрочем, и для всего другого.
Женщина смотрела на меня очень большими, как бы замурованными в толстые стекла глазами.
— Берегите это, — погладила папку ласково.
— А как я узнаю, что время пришло? — спросила я настырно.
— Кто-нибудь отыщет вас и спросит, где папка.
Мистика. Не поняла. Поехала к Гуле, может, она поможет. Лучше б не ездила. Дрожащие руки, непрекращающийся лай лохматого пса. Просьба дать в долг трешку. По телефону нараспев кому-то в ответ на просьбу приехать:
— О, этого не надо. Совсем не надо теперь. Я нехороша нынче и не стою вашего великодушия.
Остановившиеся зрачки, фарфоровое, давно не мытое лицо.
Говорить невозможно, телефон успевает позвонить в ничтожную паузу.
— У меня плохая весна. У меня очень плохая весна, — объясняет Гуля кому-то уже десятому.
Я ушла. Она, кажется, не услышала даже и, может быть, не заметила моего отсутствия. Собака лаяла, захлебываясь. Наверное, голодна была очень, но моя последняя трешка не для нее.
— Послушай! — Таня очень крепко схватила мою руку. Впилась блестящими от слез, огромными, светящимися в темноте глазами: — Послушай:
Для всех смятенных и поникших,
Для всех воскресших и живых,
Для всех, в ночи к окну приникших
За сеткой капель дождевых.
Так совершает, что захочет,
Так продолжает свой полет,
Не прорицает, не пророчит,
А просто дышит и живет.
Минует реку, входит в лес,
Переживает зиму, лето,
Светлейшее из всех чудес
Свободная душа поэта.
«Для всех, в ночи к окну приникших…» Я не знала, не могла еще знать тогда, как тянет к окнам, за которыми… Как часами можно глядеть на них, истязая себя, мучительство немыслимое. Часами, чтоб только по силуэту, по загоревшемуся ненадолго квадратику — окошечку ванной — гадать, гадать… Успокаивать себя, и снова ужасное, темное. У меня была ревность, исступленное желание узнать, понять, выследить.
И когда Вера шипела что-то, чтобы не разбудить Евгения и Леньку, и мама все спрашивала, допытывалась, молила, я не слышала. Я вспоминала, как приник к мокрому окну Агафонов, вдыхая влажный тяжелый воздух, льющийся в форточку, его руки, его тихие слова, лицо Тани, его руки…
Перешагни, переступи…
…Так совершает, что захочет…
Свободная душа…
…Я убираю чужую квартиру, и человек, который в ней живет, начинает мне нравиться. Он — взрослый мальчик. Масса ненужного, но явно милого его сердцу барахла.
В деревянной резной тарелке на письменном столе вперемешку свалены замысловатые поплавки, брелоки с изображением старинных автомобилей, перочинные ножички. Былые увлечения. А вот — следы другого: ванночки для проявителя, фонарь, черные пластмассовые цилиндрики. На диване, на журнальном столике, на полке — портативные магнитофоны. Наугад включаю, и мужской голос вдруг запел нехитрую латышскую песенку, потом — с подъемом: «Утро красит нежным светом». «Р» картавое. Это Янис Робертович развлекался с новой игрушкой: читал стихи, меняя интонации, повторяя одну и ту же фразу.
«Уважаемые коллеги, позвольте мне ознакомить вас с результатами последних исследований по гомотрансплантации. Уважаемые коллеги…» И снова по-латышски. Песенка детства. Я разбираю отдельные слова: «птичка», «печальная», «отпусти меня на волю, мальчик…».
«Мальчик, отпусти на волю доктора Зариню. Я видела сегодня, как тяжко ей быть в плену у тебя».
Не может.
Никто не может отпустить другого на волю. Освобождаются сами. Мне тоже нужно освободиться самой.
Узкая постель в соседней маленькой и узкой комнате не убрана. Больничное белье с черными треугольниками штампов. Янис Робертович пользуется больничным бельем. Экономия или просто удобно? Не нужно думать о прачечной? Но ведь кто-то же должен думать для него о прачечной?
И что это за странный дом, где не видно следов женской заботы?
Да тебе-то что за дело, уборщица! Убирай получше и поторапливайся. Дайна ждет тебя, чтобы печь пироги для чужих именин. Надо вымыть холодильник с порошком, и плита вся залита кофейной гущей. Азаров ценил меня очень за то, что тщательно мою лабораторную посуду.
Наверное, это и есть мое призвание — хорошо мыть посуду, содержать в чистоте лабораторию, дом, а я полезла в непосильные моему понимаю проблемы. В самую гущу влезла, где все кипело, варилось — варилось уже тридцать лет и не утихло, где каждое слово — боль, память о прошлом. Я крутилась в этом кипящем горячем водовороте, и меня швыряло в разные стороны. Я, как щепка ударяется о камни, ударялась о людей, пока не вышвырнуло на этот чужой берег. Зачем я влезла во все это? Зачем так настойчиво, так гибельно добивалась истины? Ведь Олег на следующий же день сказал мне эту истину, а я не услышала.