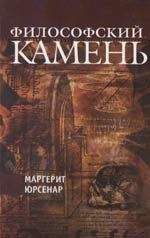Эли Визель - Ночь. Рассвет. Несчастный случай
Дверь открылась, кто-то вошел. Шепот.
— Итак, мой друг, что ты хочешь сказать?
Доктор Рассел старался держаться небрежно.
— Я хочу пить, доктор.
— Враг не хочет отступать, — сказал он. — Ты должен держаться.
— Он победит, доктор. Он не страдает от жажды.
Я подумал: бабушка меня бы поняла. В газовой камере не было ни воздуха, ни воды, и там было жарко. Жарко было в той комнате, где сине-багровые тела смяли сине-багровое тело бабушки. Как и я, она, должно быть, открывала рот, чтобы глотнуть воздуху, глотнуть воды. Но там, где она находилась, не было воды, и там не было воздуха. Она пила только смерть, подобно тому, как мы глотаем воду или воздух — рот разинут, глаза закрыты, пальцы стиснуты.
Неожиданно я ощутил странное желание — заговорить во весь голос. Рассказать о бабушкиной жизни и смерти, описать ее черную шаль, которая, бывало, пугала меня. Бабушка приободряла меня простой, ласковой улыбкой, она была моим прибежищем. Всякий раз, когда отец бранил меня, она вмешивалась: «Отцы — они все такие, — объясняла она, улыбаясь. — Сердятся из-за пустяков».
Однажды отец дал мне пощечину. Я стянул немного денег из кассы, чтобы отдать их моему однокласснику. Это был болезненный, бедный мальчик, его прозвали Хаим-сирота. Мне всегда было неловко в его присутствии. Я понимал, что я счастливее его и поэтому чувствовал себя виноватым. Виноватым в том, что мои родители живы. Вот почему я украл деньги. Но когда отец выпытывал у меня, куда я девал деньги, я не сказал ему. В конце концов, не мог же я сказать моему отцу, что чувствую себя виноватым в том, что он жив! Он ударил меня по лицу, а я убежал к бабушке. Ей я мог рассказать всю правду. Она не ругала меня. Сидя посреди комнаты, она усадила меня к себе на колени и заплакала. Ее слезы капали мне на голову, которую она прижимала к своей груди, и, к моему удивлению я обнаружил, что бабушкины слезы так горячи, что сжигают все на своем пути.
— Она здесь, — сказал врач, — за дверью, в холле. Хочешь, чтобы она зашла?
Ужас придал мне силы, и я закричал: «Нет! Не надо, не надо!»
Я подумал, что он говорит о моей бабушке. Я не хотел ее видеть. Я знал, что она умерла — быть может, от жажды — и я боялся, что она окажется не такой, какой я ее помню. Я боялся, что у нее не будет ни черной шали на голове, ни этих обжигающих слез в глазах, ни того ясного, спокойного выражения лица, которое заставляло меня забывать о холоде.
— Тебе нужно увидеться с ней, — мягко сказал врач.
— Нет! Не сейчас!
Слезы оставляли следы на моих щеках, губах и подбородке. Время от времени они даже проскальзывали под гипс. Почему я плакал? Я и сам не знал. Наверное, из-за бабушки. Она очень часто плакала. Она плакала и когда бывала счастлива, и когда несчастлива. Если же она не радовалась и не горевала, то плакала оттого, что больше уже не чувствовала всего того, что приносит с собой радость и печаль. Я хотел доказать ей, что унаследовал ее слезы, которые, как сказано, отворяют все двери.
— Как хочешь, — сказал врач. — Катлин может прийти и завтра.
Катлин! При чем она здесь? Как она встретилась с бабушкой? Она что, тоже умерла?
— Катлин? — сказал я, откинув, наконец, голову. — Где она?
— За дверью, — сказал врач чуть удивленно. — В холле.
— Приведите ее.
Дверь открылась, и легкие шаги направились к моей постели. Я снова изо всех сил попытался открыть глаза, но мои веки были словно заштопаны.
— Как дела, Катлин? — спросил я едва слышным голосом.
— Нормально.
— Полюбуйся на последнюю жертву Дмитрия Карамазова.
Катлин выдавила смешок.
— Ты был прав, это скверный фильм.
— Лучше умереть, чем смотреть его.
Смех Катлин прозвучал неестественно.
— Ты преувеличиваешь.
Шепот. Врач разговаривал с ней очень мягко.
— Я должна уйти, — сказала Катлин. Она казалась расстроенной.
— Переходи улицу осторожно.
Она наклонилась, чтобы поцеловать меня. Застарелый страх овладел мною.
— Не надо целовать меня, Катлин!
Она резко отдернула голову. На миг в палате стало тихо. Потом я почувствовал у себя на лбу ее руку. Я хотел сказать Катлин, чтобы она побыстрее убрала руку, а то ее рука может вспыхнуть, но Катлин уже сама отвела ее.
Катлин на цыпочках вышла из комнаты, врач последовал за ней. Сиделка осталась со мной. Мне очень хотелось узнать, как она выглядит: старая или молодая, симпатичная или угрюмая, блондинка или брюнетка… Но я по-прежнему не мог приподнять веки. Все мои попытки приоткрыть глаза оставались безуспешными. В какой-то момент я подумал, что одного усилия воли недостаточно, что нужно воспользоваться обеими руками. Но мои руки были привязаны к краям кровати, и большие иглы все так же торчали из них.
— Я сейчас сделаю тебе два укола, — заявила сиделка, но по ее голосу я ничего не мог определить.
— Два? Зачем два?
— Сначала пенициллин, а второй — чтобы помочь тебе заснуть.
— А третьего от жажды у вас нет? — я дышал с трудом. Мои легкие, казалось, вот-вот лопнут, словно пустые кастрюли, позабытые на огне.
— Ты уснешь и не будешь чувствовать жажды.
— А мне не приснится, что я хочу пить?
Сиделка откинула покрывало. «Я сделаю тебе укол от снов».
«Она симпатичная, — подумал я. — У нее золотое сердце. Она страдает, когда я страдаю. Когда меня мучает жажда, она спокойна. Она спокойна, когда я сплю и когда вижу сны. Наверное, она молода, красива, обаятельна, прелестна. У нее серьезное лицо и смеющиеся глаза, чувственный рот, созданный для поцелуев, а не для разговоров. Точь-в-точь, как глаза бабушки — они нужны были ей не для того, чтобы смотреть, не для того, чтобы удивляться, а просто для того, чтобы плакать».
Первый укол. Ничего. Я не почувствовал его. Второй укол, на этот раз в руку. Тоже ничего. Я испытывал такую боль, что даже не замечал уколов.
Сиделка опустила покрывало, сложила иглы в металлическую коробку, подвинула стул и щелкнула выключателем.
— Я гашу свет, — сказала она — Ты скоро уснешь.
Внезапно у меня возникла мысль, что она тоже захочет поцеловать меня перед уходом. Просто быстрый, ничего не значащий поцелуй в лоб или в щеку, а может, даже в глаза. В больницах так делают. Хорошая медсестра целует своих пациентов, когда желает им спокойной ночи. Но не в губы, только в лоб или в щеки. Это подбадривает больных. Пациент думает, что он не так уж болен, если женщина хочет поцеловать его. Он не знает, что рот сиделки предназначен не для того, чтобы говорить, и даже не для плача, а для того, чтобы успокаивать и целовать пациентов, чтобы они засыпали без страха, без страха остаться в темноте.
Я снова покрылся испариной.
— Вы не должны целовать меня, — прошептал я.
Сиделка дружески рассмеялась.
— Конечно, нет, а то ты пить захочешь.
Она вышла из комнаты. А я стал ждать, когда придет сон.
— Расскажи мне немного о себе, — сказала Катлин.
Мы сидели у нее в комнате, в приятном тепле. Мы слушали грегорианский хорал, и он вздымался в наших душах. Слова и музыка несли в себе такой покой, который никакая буря не могла нарушить.
Две чашки на маленьком столике все еще были наполовину полны. Кофе остыл. Полумрак заставлял меня прикрывать глаза. Усталость, которая одолевала меня в начале вечера, исчезла бесследно. Нервы напряглись, я ощущал, как время, проходя сквозь мое сознание, уносит с собой частицу меня.
— Расскажи, — сказала Катлин, — я хочу узнать тебя.
Она сидела справа от меня на большом диване, скрестив под собой ноги. Сон витал в воздухе, словно не зная, куда опуститься.
— Мне не хочется, — сказал я. — Мне не хочется говорить о себе.
Чтобы говорить о себе, чтобы по-настоящему говорить о себе, мне пришлось бы рассказать о моей бабушке. Мне не хотелось рассказывать о ней словами — историю моей бабушки можно было выразить только в молитве.
После войны, когда я приехал в Париж, меня часто, очень часто упрашивали рассказать. Я отказывался. Я считал, что мертвым ни к чему наши голоса. Мертвые не столь застенчивы, как я. Они не знали стыда, я же стеснялся и стыдился. Так уж заведено на свете: стыд терзает не палачей, а их жертвы. Самый большой стыд — это быть избранным судьбой. Человек, скорее предпочитает винить себя во всех мыслимых грехах и преступлениях, чем прийти к выводу, что Бог способен на самые ужасающие несправедливости. Я до сих пор всякий раз краснею, когда размышляю о том, как Бог забавляется со своими любимыми игрушками — людьми.
Однажды я задал моему учителю, кабалисту Кальману, вопрос: «С какой целью Бог создал человека? Я понимаю, что человеку нужен Бог. Но зачем Богу человек?»
Мой учитель прикрыл глаза, и отвердевшие сосуды, по которым мчались подгоняемые страхом истины, словно тысячи ран, прочертили замысловатый лабиринт на его лбу. После нескольких минут раздумья его губы сложились в тонкую отстраненную улыбку.