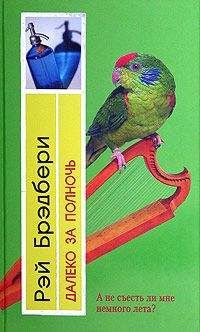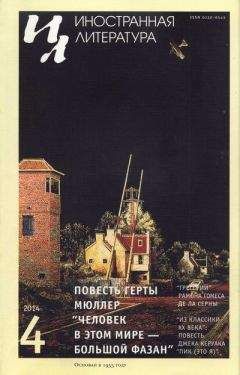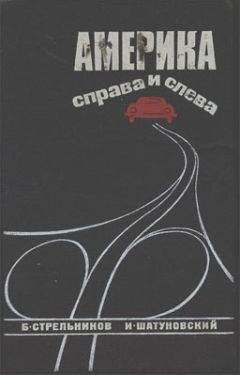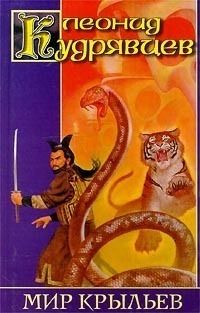Герта Мюллер - Качели дыхания
Но лучше вести речь о головном счастье, чем о глоточном.
Глоточное счастье ищет одиночества, оно немое и коренится внутри. А головное — общительное и нуждается в других. Такое счастье слоняется повсюду и вечно увязывается, хромая, за кем-нибудь. И длится дольше, чем ты в силах вынести. Головное счастье раздроблено на куски, которые трудно рассортировать, потому что они смешиваются как хотят, а само счастье быстро превращается из
светлого в
темное
размытое
слепое
неблагоприятное
потаенное
порхающее
медлящее
порывистое
навязчивое
шаткое
рухнувшее
потерянное
нагроможденное
ухищренное
обманчивое
сомнительное
раскромсанное
запутанное
подстерегающее
колючее
ненадежное
вернувшееся
дерзкое
краденое
отброшенное
остаточное
и затем — в счастье, что прошло мимо тебя.
Головное счастье может быть и с влажными глазами, и с вывернутой шеей или с дрожащими пальцами. Но в любом случае оно грохочет в висках, как лягушка в жестяной банке.
И наконец — последняя капля счастья. Того счастья, что наступает вместе со смертью. Я еще помню, как Труди Пеликан, когда Ирма Пфайфер умерла в известковой яме, поцокала языком и сказала: «Последняя капля счастья».
Я с ней согласен: когда мертвых обирают, по ним видно, что они испытывают облегчение. Наконец-то они обрели покой: нет больше ни окостенелого гнезда в голове, ни головокружительных качелей дыхания, ни одержимого ритмом насоса в груди, ни пустого зала ожидания в брюхе.
Но головного счастья в чистом виде не было никогда, потому что во всех глотках сидел голод.
И даже сейчас, через шестьдесят лет после лагеря, еда для меня — большое переживание. Я ем всеми порами и становлюсь неприятным, когда сижу за столом вместе с другими людьми. Я ем самоуглубленно и замкнуто. Другим глоточное счастье неведомо; они едят, оставаясь общительными и вежливыми. Мне же именно во время еды приходит в голову мысль о последней капле счастья — о том, что она рано или поздно достанется каждому из сидящих здесь за столом, и тогда им придется расстаться и с гнездом в голове, и с качелями дыхания, и с насосом в груди, и с залом ожидания в брюхе. Я ем так охотно, потому что не хочу умирать: ведь тогда я не смогу больше есть. Вот уже шестьдесят лет, как я знаю, что возвращение домой не избавило меня от лагерного счастья. Это счастье и поныне своим голодом выгрызает сердцевину всякого иного чувства. У меня в сердцевине пусто.
С тех пор как я вернулся, во мне каждое чувство, что ни день, мучается собственным голодом и требует утоления, но этот голод не утолить. Я никому не позволю цепляться за меня. Я прошел выучку у голода и стал недосягаем из смирения, а не от гордыни.
Живем лишь раз
Во время «мешков с костями» у меня в голове ничего больше не осталось, кроме зудящей шарманки, повторяющей днем и ночью: «Жжет холод, обманывает голод, давит усталость, грызет тоска по дому, кусают клопы и вши». Я хотел обменяться с чем-то таким, что хоть и не живет, но и мертвым его не назовешь. Устроить спасительный обмен моего тела на линию горизонта наверху, в небе, и на пыльную дорогу внизу, на земле.
У них я хотел одолжить выносливость — и существовать без тела; а когда худшее останется позади, снова нырнуть в свое тело и появиться перед всеми в ватной спецовке. Мои намерения не имели ничего общего с умиранием, они были его противоположностью. Абсолютный нуль невыразим. Мы, нуль и я, согласны в том, что о нем самом сказать нечего, разве что вокруг да около. Разинутая пасть нуля способна пожирать, но не говорить. Нуль со своей удушающей нежностью засасывает тебя. А спасительный обмен несравним ни с чем. Такой обмен принудителен и действует напрямую, по принципу: 1 взмах лопатой = 1 грамму хлеба.
Во время «мешков с костями» спасительный обмен мне, должно быть, на самом деле удавался. Видимо, порой я обретал выносливость линии горизонта или пыльной дороги. Ведь сам по себе — как «мешок с костями» в ватной спецовке — я не мог бы держаться за жизнь.
Питание тела и поныне для меня тайна. В теле, как на стройплощадке, постоянно что-то сносится или строится. Ты каждодневно видишь себя и других, но не замечаешь, сколько в тебе за этот день было разрушено или восстановлено. Остается загадкой, как могут калории всё отнять или всё дать. Как они, если отнимают, стирают в тебе и все следы отнятого, а если дают — возвращают их обратно. Ты не знаешь, с какого момента начался перелом, а просто чувствуешь, что силы к тебе вернулись.
В последний лагерный год мы за работу получали на руки деньги и могли покупать еду на базаре. Мы ели сушеные сливы, рыбу, русские блины со сладким или соленым творогом, кукурузные пирожки с начинкой из сахарной свеклы, маслянистую подсолнечную халву. Всего за несколько недель мы отъелись. Стали упитанными, и даже слишком, — ОДУТЛОВАТЫМИ, как выразился парикмахер. Мы снова превращались в мужчин и женщин, словно вторично выходя из подросткового возраста.
У женщин новый этап начался со щегольства, но мужчины пока не решались расстаться с ватными доспехами. Мужчины полагали, что и без того хороши собой, а вот женщинам они обеспечивали возможность принарядиться. У Ангела голода появилось чутье на наряды и на новую лагерную моду. Мужчины приносили с завода метровые куски снежно-белого каната толщиной в руку. Распустив канат на нити, женщины соединяли их и вязали крючками бюстгальтеры, штанишки, майки, блузки. Узелки вязальщицы втягивали внутрь, на готовых изделиях ни одного не было видно. Таким способом вязали даже ленты для волос и броши. Труди Пеликан носила брошь в виде кувшинки — выглядело это так, будто она подвесила к груди кофейную чашку. Одна из Кисок прицепила к куртке букетик из вязаных ландышей и цветков белой наперстянки, насаженных на проволоку, а Лони Мих — далию, подкрашенную толченым кирпичом. На первой стадии этого хлопчатобумажного трансфера я тоже считал, что хорош как есть. Но вскоре и меня потянуло к нарядам. Я долго трудился и в конце концов сшил своими руками кепку «шимми» из поношенного пальто с бархатным воротником. Вся конструкция кепки сложилась у меня в голове, я задумал громоздкое сооружение со всякими фокусами. Обтянул материей каркас из автомобильной покрышки — такого размера, чтобы кепку можно было надеть набекрень, прикрыв ухо. Для козырька я использовал толь, под овальный верх кепки подложил бумагу (кусок мешка из-под цемента), а на подкладку пошли лоскутья рваной рубахи. Подкладка имела особое значение — то было еще долагерное щегольство: когда хочется, чтобы одежда выглядела красиво ради тебя самого, даже в тех местах, куда другие не заглянут. Фасон этой кепки был рассчитан на лучшие времена, а козырек с надеждой выглядывал будущее.
Вязаная лагерная мода дополнялась туалетным мылом, пудрой и губной помадой из магазина в русской деревне. Вся косметика — одной и той же марки КРАСНЫЙ МАК — была розового цвета и распространяла резкий сладкий запах. Ангел голода удивлялся.
На самой первой волне моды всплыла выходная обувь, те самые БАЛЕТКИ. Я притащил сапожнику половину резиновой покрышки, другие доставали на заводе куски прорезиненной ткани от транспортерной ленты. Сапожник шил летнюю обувь с очень тонкой, гибкой подошвой, каждому по ноге — элегантную, сработанную на колодке; такую обувь носили и мужчины, и женщины. Ангел голода обрел легкую походку. «Палома» была вне себя от радости: все теперь бежали на танцплощадку и танцевали, пока — незадолго до полуночи — не раздавался гимн.
Женщины хотели теперь нравиться мужчинам, а не только самим себе и другим женщинам, поэтому и мужчинам приходилось прилагать усилия, чтобы женщины пустили их к себе под одеяло и подпустили к вязаному белью. Так, вслед за балетками, возникла и мужская мода. Новая мода повлекла за собой новые романы и повела тропами звериной нежности к новым беременностям с последующим выскабливанием в городской больнице. Но множилось и количество младенцев за решетчатой загородкой в больничном бараке.
Я пошел к герру Ройшу, который раньше жил в местечке Гуттенбрунн, в Банате. Я знал его лишь по проверкам на плацу. Целыми днями герр Ройш убирал мусор на разбомбленном заводе, а по вечерам за табак чинил порванные фуфайки. Он был дипломированным портным, а с тех пор, как Ангел голода обрел легкомысленную походку, стал еще и мастером, который пользуется особым спросом. Герр Ройш раскатал тоненькую лоскутную ленту с нанесенными на нее сантиметровыми делениями и обмерил меня от шеи до щиколоток. Потом сказал, что на брюки потребуется полтора метра ткани, а на куртку — три двадцать. Кроме того, нужны три большие пуговицы и шесть маленьких. О подкладке для куртки он позаботится сам. Мне хотелось, чтобы на куртке был пояс с пряжкой. Герр Ройш предложил сделать застежку для пояса из двух металлических колец и заложить на спине куртки встречную складку. Он назвал такую складку «подвальной» и добавил, что в Америке это последний крик моды.