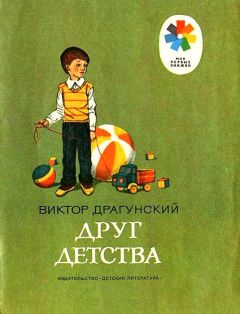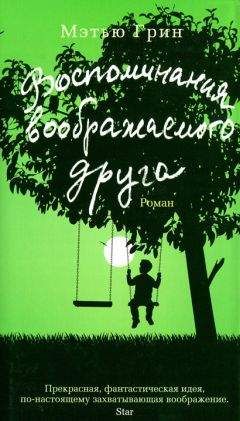Максим Кантор - Учебник рисования
— Почему я должен вмешиваться в отвратительную историю? Меня криминальные истории не касаются! Речь идет о мошенничестве!
— Но мошенничество и есть главный двигатель государственного строительства — иного двигателя нет. Если все развитие осуществляется путем мошенничества в особо крупных размерах — зачем же от мелкого мошенничества нос воротить?
— Демагогия!
— Ты мужчиной, Боря, никогда не пробовал быть? Конечно, трудно. Зато интересно.
— Требуется строить правовое государство, — сказал Кузин, цедя слова, — и работа эта не простая. Кто-то крадет. Кто-то впадает в соблазн. Мы движемся к цивилизации, идем быстро, потери неизбежны. Общими усилиями строим правовое государство — это я считаю единственным мужским поступком в России. А бандитизм и бесовщину — отвергаю.
— Правовое государство или не правовое — какая разница? Государственное право к людям не относится.
— Нет уж, извини! Строить внутренний Рим в окружении варваров — непростая задача! Что касается меня, я предпочитаю радикулит демократии — раку тоталитаризма. — Кузин сам почувствовал, что высказался несколько высокопарно, но, впрочем, и момент был ответственный — требовалось пафосное высказывание.
— А я думаю, — сказал Струев, — что разницы никакой нет. Один врач ставит один диагноз, а другой врач — другой диагноз. Бывают такие случаи: думают, что боли от радикулита, а это уже метастазы.
— Метастазы! — сказал бурый Кузин. — Я занят тем, что выжигаю метастазы из сознания людей. Я — врач, спасающий общество.
— И кого же ты спас? Бабок, у которых сторговали квартиры по пять рублей, чтобы продать за тридцать тысяч? Областных следователей, которых областные бандиты запугали и купили? Кооператоров, которых пустили в расход? Они все твоего вранья начитались, Боря, — про средний класс и благородную наживу. Ты их спасал? А может быть, ты спасал комсомольских активистов, которые теперь живут на Багамах? Впрочем, — добавил жестокий Струев, — разумный врач должен разумно выбирать пациентов: ниже секретаря райкома ты, думаю, не практикуешь.
— Ты лжешь! — ответил Кузин. — Тебе надо найти виноватого, и легче будет, если виноватым окажусь я. Но ты сам знаешь, что соврал, — медалей от государства я не получал. Я обличал несправедливость, где мог! Мы оба увидели раковую опухоль — тогда, давно. Только ты решил убить пациента, чтобы уничтожить рак, а я — врач: я стараюсь больного лечить.
— Рак есть всегда, — сказал Струев. — Государство живет за счет общества, как рак живет за счет организма, — другой пищи не имеет. Штука в том, что как только сдохнет организм — и рак тоже сдохнет. Поэтому государство вынуждено поддерживать общество, рак не спешит, ест народ медленно. Так государство и расширяло Россию — толкало ее вправо и влево: ему же на ней, толстомясой, надо жить, оно себе пищу готовило. А сейчас понятно стало — не спасти уже общество, отмерен срок, а раз так, то и рак стесняться перестал: жрет в три горла, торопится. Жрет — и переживает: ведь и сам он умрет, когда до костей проест народ; закопают общество, и его закопают. И что же раку остается делать? А только одно — растащить организм на части, продлить агонию. Распадется это государство на два, на три, на десять, лишь бы хоть на день, да пережить поганое варварское общество. Раньше мы с тобой кормили рак тем, что служили обществу, — а теперь должны служить непосредственно раку: ничего другого не осталось. Ты на это рассчитываешь, Боря?
— Нет, — ответил ему Кузин, — я рассчитываю на другое. Я рассчитываю на то, что мои статьи, книги, выступления — рано или поздно сформируют в России свободную личность. Я рассчитываю на то, что неустанное учительство — а именно учителями народа и были Чернышевский, Герцен, Достоевский; я и себя причисляю к учителям, — когда-нибудь себя оправдает. Не бесплодные одноразовые подвиги, а ежедневное кропотливое образование — вот на что я рассчитываю. Я рассчитываю на то, что если я буду на стороне закона и права (пусть даже этот закон извращается подлыми правителями), то и мои читатели приучатся уважать закон. Тогда Россия встанет на исторический путь развития. И ничего важнее для будущего России я не знаю.
— Что ты, Боря, — сказал Струев, — о какой России ты говоришь? Ты Подмосковья толком не знаешь, при чем тут Россия. В Одинцовском районе, в сорока километрах от города, в деревне Грязь застрелили мужика — и нет надежды на закон. Какой закон, если все разумно распродано в рамках личного обогащения? Следователю надо кормиться, и прокурору детей на каникулы надо слать. Застрелили парня, как собаку, и бросили в канаву — во имя логики первоначального накопления, к вящему торжеству морали Запада.
— При чем здесь Запад! — сказал Кузин. — На Западе как раз мужик бы уцелел. Всегда так в России было, и западные идеи тут ни при чем. Сам виноват — связался с ворами.
— Верно. И дела до него истории нет: не диссидент, не интеллигент, не банкир, не еврей — сам виноват в своей судьбе, пьяная скотина.
— Бесправная страна, — согласился Кузин и кстати вспомнил свои беседы с депутатом Середавкиным: тот тоже сетовал на криминогенную среду. Кузин скорбно развел крепкими руками. — Такая у нас страна. Тебе до этого алкоголика какое дело? — спросил он.
— Дело простое. Его смерть я вам не прощу. Не прощу ни тебе, ни Луговому, ни Тушинскому — не прощу вам деревню Грязь и этого мужика, сдохшего в канаве. Не прощу того, что вы двадцать лет ему врали, что он свободен, а сами лебезили перед его начальством — перед префектами, директорами и банкирами, — они полезнее в деле образования. Вы знали прекрасно: случись что — мужик окажется крайним, ему никто не поможет. Внушили мужику, что он освободится, если будет ишачить на новое начальство, — точно так же, как когда-то сделали большевики. Вы повторили то же самое, но циничнее, без пафоса. Сами не убивали, нет, и мужику все одно — подыхать. Но вы его смерть узаконили и назвали победой прогресса, а с его убийцами шампанского тяпнули на конгрессе в защиту культуры. И этого я вам не прощу, сволочи.
— Я ничего про эту смерть не знаю и в деревне Грязь не бывал. А ты в этой деревне, подозреваю, оказался случайно, — сухо ответил Кузин. — Вероятно, поехал на пикник с девочками и ужаснулся мерзости русского быта. Так часто бывает с художниками.
— Верно, — сказал ему Струев, — бывает. И со мной было именно так. И вот что я решил. В стране, где выдумывают теории, чтобы оправдать то, что десять миллионов живут за счет ста тридцати миллионов, я буду на стороне большинства. Не потому, что большинство право. А потому что надо быть со слабыми. Не потому, что теории глупые. А потому, что быть паразитом и трусом — противно. Потому что теории выдумывают здесь для того, чтобы пролезть в число управляющих. Любая цивилизаторская теория здесь — это оправдание паразитизма и разрешение начальству дальше гробить народ. Русский европеец — это опричник.
И Борис Кириллович Кузин, прекрасный полемист и оратор, Кузин, который мог бы сказать, что его «Прорыв в цивилизацию» написан именно против произвола и опричнины, — Кузин ничего не ответил.
XIСтруев сказал:
— Конечно, жизнь интеллигента стоит дороже, чем жизнь овец. Но жизнь все равно подходит к концу. Тебе теперь сколько? Пятьдесят пять?
Кузин не ответил.
— Вот и мне столько же. По-моему, стоит рискнуть.
Кузин не отвечал. Потом сказал:
— Но это преступление, это дурно. Напрасно ты мне рассказал об этом.
— Донесешь?
— Прежде всего, я постараюсь переубедить тебя. Ты все-таки гуманист.
— Ни в коем случае. Я в абстракциях не силен. Но простые вещи понимаю.
— Какие же?
— Надо смыть позор.
— Глупейшая авантюра.
— Верно, — сказал Струев. — Авантюра. Только почему глупая?
— Террор в принципе не умен. Убьешь негодяя — и что дальше? Так все бомбисты действовали — и каков результат? Либо новый мерзавец приходит на смену, либо революционер занимает место убитого — и сам становится мерзавцем. Ничего изменить политическое убийство, или революция, или бунт не могут. Глупость — и больше ничего.
— Глупость, значит, — сказал Струев. — Не глупее, однако, чем обещание переделать Россию в пятьсот дней. Не глупее, чем желание насадить в снежной стране южноамериканские порядки. Не глупее, чем план внедрить западные законы в государстве, которое лежит на востоке. Не глупее, чем считать, что осчастливишь сто миллионов тем, что десяти тысячам дашь право быть счастливыми. Не глупее, чем брать пример с Европы, которая катится черту в зубы. И уж ни в коем случае не глупее, чем идея — возложить исполнение либеральных реформ на полковника госбезопасности. Не глупее всего этого. А вообще, с точки зрения абстрактного блага, — да, затея глупая, согласен.