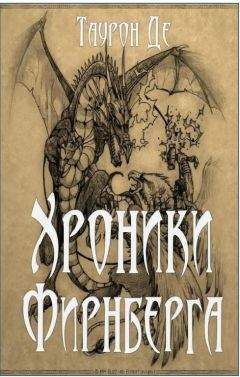Джон Тул - Сговор остолопов
Я пустился на поиски мистера Палермо, фабричного десятника, который, между прочим, по своему обыкновения не отходит от бутылки больше, чем на несколько шагов, как об этом свидетельствуют многочисленные ушибы, претерпеваемые им от падений между раскроечных столов и швейных машин, но безуспешно. Вероятно, он заглатывал свой жидкий обед в одной из многих таверн в непосредственной близости от нашей организации; бар имеется на каждом углу района, в котором располагаются «Штаны Леви», — показатель того, что уровень заработной платы в этом районе крайне низок. В особенно безнадежных кварталах — по три-четыре бара на каждом перекрестке.
В своей невинности я подозревал, что непристойный джаз, исторгавшийся громкоговорителями со стен фабрики, и лежит в корне той апатии среди рабочих, свидетелем которой я стал. Дух выдерживает бомбардировку этими ритмами лишь до определенного предела, за которым он начинает осыпаться и атрофироваться. Следовательно, я отыскал и повернул выключатель, контролировавший музыку. Это действие с моей стороны привело к довольно-таки громкому и вызывающе хамскому реву протеста со стороны коллектива работников, которые хмуро начали меня рассматривать. Поэтому я включил музыку снова, широко улыбаясь и дружелюбно помахивая рукой в попытках признать свое недальновидное решение и завоевать расположение рабочих. (Их огромные белые глаза уже окрестили меня «Мистером Чарли». Мне придется побороться за то, чтобы показать им свою поистине психотическую преданность в деле оказания им помощи.)
Очевидно, непрерывная реакция на музыку выработала в них почти павловский рефлекс на шум — рефлекс, полагаемый ими удовольствием. Проводя бессчетные часы своей жизни в наблюдениях за этими испорченными детьми по телевидению, где они танцуют под такого рода музыку, я представлял себе, какой физический спазм она должна вызывать, и предпринял собственную консервативную версию того же самого прямо на том же месте, в целях дальнейшего умиротворения рабочих. Должен признать, что тело мое двигалось с удивительным проворством; я не лишен внутреннего чувства ритма; предки мои, должно быть, выдающимся образом отплясывали джиги на вересковых пустошах. Не обращая внимания на взгляды рабочих, я зашоркал ногами под одним из громкоговорителей, изгибаясь и вскрикивая, безумно бормоча себе под нос: «Давай! Давай! Делай, крошка, делай! Я тебе говорю. Вау!» Я понял, что снова отвоевываю у них территорию, когда некоторые стали показывать на меня пальцами и смеяться. Я смеялся им в ответ, чтобы продемонстрировать, что и я тоже разделяю их хорошее настроение. De Сasibus Virorum Illustrium![28] О Падении Мужей Великих! Мое падение состоялось. В буквальном смысле. Моя видная система, обессиленная круговращательными движениями (особенно в районе коленей), в конечном итоге, восстала, и я рухнул на пол в бессмысленной попытке изобразить один из тех вопиюще извращенных танцевальных па, которым я столько раз был свидетелем по телевидению. Рабочих, казалось, это довольно-таки озаботило, и они помогли мне подняться крайне вежливо, улыбаясь мне наидружелюбнейшим манером. Я понял, что мне больше не следует опасаться за свой faux pas[29] в выключении их музыки.
Несмотря на все, чему негры подвергались, они, тем не менее, — довольно приятный народец по большей части. В действительности, я мало имел с ними дела, поскольку вращаюсь либо в кругу равных мне, либо вообще нигде. Побеседовав с несколькими работниками, причем все они, казалось, были не прочь поговорить со мной, я обнаружил, что получают они еще меньшее жалованье, чем мисс Трикси.
В каком— то смысле, я всегда ощущал нечто вроде сродства с цветной расой, поскольку положение ее сродни моему: мы оба существуем за пределами внутреннего царства американского общества. Мое изгнание, разумеется, добровольно. Тем не менее, очевидно, что многие негры желают стать активными членами американского среднего класса. Не могу даже вообразить себе, почему. Должен признаться, что стремление это с их стороны подводит меня к сомнению в их оценочных суждениях. Однако, если они желают влиться в буржуазию, меня это совершенно не касается. Они сами могут подписывать себе приговор. Лично я агитировал бы довольно непреклонно, заподозри я кого-либо в попытках подсадить меня повыше, в средний класс. То есть, я агитировал бы против озадаченного этим человека, предпринявшего бы такую попытку помочь мне. Агитация эта приняла бы форму множества маршей протеста вместе с полагающимися в таких случаях традиционными знаменами и плакатами, но гласили бы они вот что: «Долой Средний Класс», «Средний Класс Должен Исчезнуть». Не стану возражать я и против того, чтобы швырнуть один-другой «коктейль Молотова». Помимо этого, я бы старательно избегал садиться рядом со средним классом в закусочных и общественном транспорте, поддерживая внутренне присущую мне честность и благородство моего бытия. Если же белый представитель среднего класса достаточно суициден, чтобы присесть рядом со мной, воображаю, что я бы крепко избил его по голове и плечам одной своей громадной рукой, другой же рукой одновременно и довольно-таки искусно швыряя один из своих «молотовых» в проезжающий мимо автобус, под завязку набитый другими белыми представителями американского среднего класса. Вне зависимости от того, месяц или год будет тянуться осада меня, я уверен, что в конечном итоге все оставят меня в покое -после тотального опустошения и разора мною уже оцененного имущества.
Я поистине восхищаюсь тем трепетом, который способны вселять негры в сердца отдельных членов белого пролетариата, и желаю только (Это довольно личное признание.) сам обладать способностью внушать такой же ужас. Негр внушает ужас лишь тем, что остается самим собой; мне, однако, для достижения той же цели приходится прибегать к угрозам. Возможно, мне следовало быть негром. Подозреваю, что я был бы довольно крупным и устрашающим экземпляром, непрерывно прижимался бы своим полным бедром к увядшим лядвиям белых дам в средствах общественного транспорта, исторгая из них более чем один панический взвизг. Более того, будь я негром, моя мать не настаивала бы на том, чтобы я искал себе хорошую работу, поскольку для меня бы не существовало хорошей работы. Да и сама моя мать, изнуренная старая негритянка, была бы слишком сломлена годами низкооплачиваемого труда домашней прислуги, чтобы ходить по вечерам играть в кегли. Мы с нею могли бы с приятностью проживать в какой-нибудь заплесневелой лачуге трущоб в состоянии нечестолюбивого покоя, в довольстве осознавая, что мы нежеланны, что любые устремленья бессмысленны.