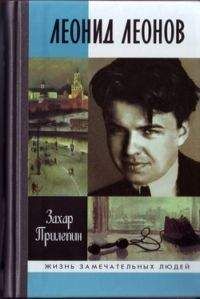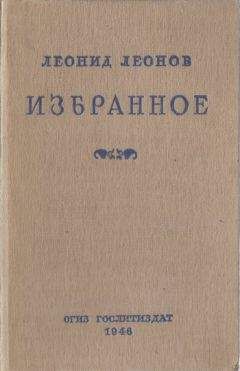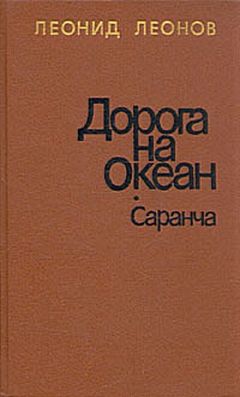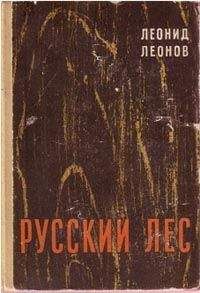Леонид Леонов - Пирамида. Т.1
К чести Никанора Шамина надо отмести всякие личные побуждения самолюбия или корысти. По отсутствию способных донести свидетелей совершившийся акт общения с ангелом не грозил студенту чем-либо, вроде выговора либо лишения стипендиатского повидла, так как на сравнительно небольшом отрезке времени и при несомненной своей принадлежности к потусторонней категории объявившийся Дунин приятель не проявил ни одного пока, преступного в глазах эпохи, элемента церковной мистики. При вполне оправданной его неприязни к Дымкову, еще меньше имелось причин для мужской ревности к мнимому сопернику, коего, по его физической хлипкости мог обезвредить нажимом указательного пальца. Однако характер охвативших Никанора обывательских сомнений заставляет признать, что институтская общественность рановато увидела в нем достойную смену тогдашним неукоснительно-направляющим столпам, какие подобно бесстрастным утесам возвышались над бушующей действительностью. И если совсем недавно скандальное, якобы уже насквозь могильным тлением пропахшее прошлое отцов, как выразился в одной лихой статейке Шатаницкий, вынуждало и Никанора в числе прочих юнцов с ликующим кощунством рваться куда-то вперед, напролом и подальше, то иррациональные события минувшего вечера невольно толкали студента обмозговать, куда возводит род людской уже седая, сама полуослепшая от слез и древности и все еще обольстительная мечта о золотом веке. Подобный пересмотр привычных ориентиров вел прямиком к великому брожению умов, а спасение состояло в немедленном подведении легального философского базиса под указанную чертовщину, и оттого надо считать, как нельзя более своевременным, что Никанор вспомнил о своем всеобъемлющем декане, о его постоянной готовности прийти на помощь, как ловко льстил он при каждой оказии нашей чуткой, искательной молодежи... И здесь, зарывшись головой в подушку, студент принялся наверстывать упущенное в первой половине ночи, причем с таким шумовым оформлением, что пробудившийся на печке родитель лишь головой покачал, хотя по его собственной похвальбе, мыши не смели показываться из подполья, пока он сам занимался сном.
Глава XI
Случилось совершенно необычное: корифей попросил своего ученика посетить его на дому. Помимо доверия приглашение означало и какую-то несомненную нужду в услуге студента. С понятным волнением Никанор отправился в берлогу.
Самые влиятельные стихии под видом случайностей и совпадений несли в тот раз Никанора на свидание с шефом. Они с ветерком мчали его по тротуарам метельного города, придерживали на остановках необходимые трамваи, помогали без увечий и штрафов пересекать магистральные потоки, пока не прибыл на место назначения.
Ведомственное здание Шатаницкого, уходившее шахтами в пламенную глубь земли и бессчетными этажами погруженное в небо, оставалось незримым для посторонних даже при ясной погоде. Обнаружить его можно было лишь подойдя вплотную с риском провалиться в бездонный люк к дежурному на рога. Система охранительных средств действовала надежнее комендатуры с выдачей пропусков. Все наружные входы были зашиты досками по причине круглогодичного ремонта, видимо, свои проходили непосредственно сквозь стенку. И в поисках входного отверстия смельчаку приходилось впритирку протискиваться в сводчатых воротах, закупоренных застрявшим в снегу автофургоном.
Едва пробился во двор как, тотчас для него нашлась обитая железом запасная дверь, и сразу при входе налево лифт в углу. Не успел он вступить в него, как тесная кабина сама собой, рывками пометавшись в стороны, чтобы запутать ориентировку жертвы, сперва напропалую ринулась куда-то в глубь земного шара, пока предупреждающий зной не стал ощущаться в ногах, после чего чертова коробка уже безупречно доставила студента в поднебесную высоту на должный этаж, хотя личных часов у Никанора не было, но судя по все возраставшему нетерпению подъем длился почти четверть часа.
То был вполне обыкновенный, перенаселенный жильцами и с коридорной системой коммунальный дом. Саднящий зрение, слепительный лампион светил неведомо откуда, и вся служивая адская живность сидела дома, раз отовсюду сочился нетерпимый до зуда в мозгу свербящий звук ее вечерней деятельности — лаяла собака, звонил телефон, неправдоподобно громко плакал сомнительный младенец, пилили лобзиком стекло, сдвигали мебель, вбивали многодюймовые гвозди и, наконец, колоратурная певица с помощью радиолы звала любовника вернуться в ее объятья. Отовсюду стекавший звуковой мусор гулко проваливался в кромешное эхо лестничной клетки. Однако стоило Никанору добраться до апартамента с медной табличкой Шатаницкого, как шумовая суматоха сменилась мгновенно настороженной тишиной, студент, не успевший коснуться звонка, в ту же минуту различил два пристальных блеска сквозь почтовую прорезь в двери, которая беззвучно открылась, и за нею стоял улыбающийся корифей в домашней венгерке с бранденбурами, черной шапочке ученых на голове и в шлепанцах. С десяток самых причудливых масок проструилось в его лице, прежде чем Никанор опознал в нем своего учителя, приглашавшего войти в прихожую — с жестом на вешалку. И пока по длинному коридору шли в глубь квартиры, Шатаницкий впервые проговорился о своем заветном желании навестить студента на дому, точнее — в домике со ставнями в надежде на личный контакт с достопочтенным Финогеем Васильевичем, с коим дотоле имел беседу только во сне.
— Папашу моего зовут наоборот, Васильем Финогеичем, — не преминул поправить Никанор.
— Ах, какая жалость, никак не скажешь по виду... — невпопад пробормотал хозяин, с полупоклоном пропуская гостя, который не без опасливого смущенья за не по чину оказанный ему торжественный прием вступал на порог вселенского атеистического форпоста.
Каждая мелочь подтверждала институтскую репутацию квартирохозяина в качестве книжника, библиофила, анахорета и чудака с холостяцким укладом существования вплоть до показной железной койки за ширмой в углу. Так опровергался обывательский анекдот, будто ложем для сна служит ему трехслойный магнит с титановой присадкой, специально изготовленный на секретном уральском заводе. Житейский аскетизм возмещался у него и тоже — не миражным ли — изобильным книжным богатством.
Синевато-магическое сиянье исходило в потемках от вплотную заставленных полок, декоративно заплетенных густой паутиной в проходах, — наглядное свидетельство ничьих посещений. Обширная память владельца, как раз вмещавшая все случившееся некогда, еще по ту сторону времени, не нуждалась в справках и уточненьях, ибо вдохновенное безумие драгоценных фолиантов было им же нашептано в давние бессонные ночи. Мемориально-архивный характер собрания тем и объяснялся, наверно, что у обреченного на пожизненное пребыванье во мраке, в котором вязнет и солнце, имеются свято хранимые воспоминанья об утраченном предвечном свете. Впрочем, помимо первоклассных, полностью забытых ныне жемчужин потаенного знанья, надежно защищенного от vulgus profanum личиной еретического мракобесия и опиума для простаков, всяких инкунабул и адским прозреньем восстановленных палимсестов эсхатологического откровенья, среди бесценных рукописей классиков научного оккультизма, украшенных дарственными надписями Аполлония, Агриппы и не менее легендарного Элифаса Леви, находилась энциклопедическая Biblioteca rabbinica — наиболее обстоятельный свод самых ранних домыслов о происхождении вещественного мира, и, судя по зиянию во втором ряду одинаковых фолиантов, там недоставало одного. Не он ли, распахнутый посередине, красовался у корифея на самом виду? То был как раз седьмой том Biblioteca rabbinica с предысторией якобы на заре мира случившегося знаменитого небесного раскола.