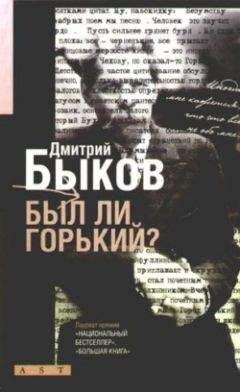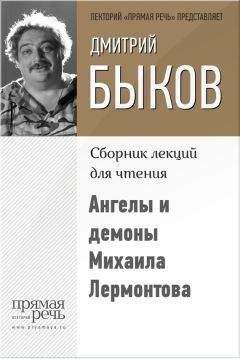Дмитрий Быков - Оправдание
У Олеши телефон сменился, но Бабель знал, где можно найти друга. Был никому не ведомый шалманчик у Белорусского вокзала, туда Олеша ходил во дни безденежья. Судя по атмосфере, дела его не могли быть блестящи. Это до войны он хаживал в «Националь». В сущности, предупреждать его было ни к чему: он был теперь, видимо, почти руина, таких не брали. Разрушать себя он начал давно и целенаправленно, вообще был педантом, и это был лучший выход: опередить на ход, успеть раньше, чем тебя разрушат они. Его потому и не взяли в тридцать восьмом, что, по сути, уже и в тридцать шестом-то нечего было брать. Эренбурга Бабель уважал за самосохранение, Олешу — за самоуничтожение, в котором он опередил собственную судьбу. Такая игра дорогого стоила.
Бабель успел выпить две кружки пива, стоя за грязным мраморным столиком. Неопрятный старик, сутулившийся рядом, предложил ему вяленого леща, Бабель поблагодарил и взял. За окном стал сеять дождь, уже не тот, что утром, — буйный, освежающий, — а мелкий, тихий. Бабель не услышал, а увидел его косой пунктир на стекле, которое с каждой минутой мутнело и синело. Бабель никогда не понимал, как можно написать московский пейзаж: в московском пейзаже не было красок.
Олеша пришел к девяти вечера, уже пьяный, в грязном черном пальто, несмотря на теплынь: пусть дождь, но не ходить же летом в этом убожестве! Первый признак разрушения — все время мерзнешь: все виденные Бабелем бродяги и старые, потерявшие удачу воры были в сальных тряпках, облезлых кацавейках. Олеша постоял на пороге, выискивая знакомые лица, увидел Бабеля и без тени изумления или страха направился к нему.
— Здравствуйте, Бабель, — сказал он.
Старик рядом кивнул Олеше и не обратил ни малейшего внимания на произнесенную фамилию: был поглощен своей рыбой.
— Хорошо, что вы пришли. В последнее время все такая дрянь ходит. Вчера был Авербах.
Авербах подписал все, оговорил тьму народу, каялся, но его пощадить не могли: своих не щадили. Дали власть, а он не оправдал.
— Ходит кто попало, — продолжал Олеша, не делая пауз для возможного ответа собеседника. Он давно привык работать в режиме монолога: некому было поддерживать блестящий разговор, и не призраку же предоставлять слово для ответа. — Был Воронский, был Дементьев. Мейерхольд никогда не придет, он мне не может простить, что я не защитил Зину. Что же я мог? Маяковский не ходит, он верил в меня, а я не оправдал его надежд. Но то, что я делаю здесь, тоже искусство.
Это было немного театрально, но, в общем, неплохо. В конце концов, лучше, чем эпопея. В некотором смысле он изобрел новый жанр, но в нем мог работать только сам. Хорошо, что меньше стало метафор: они отвлекали от сути и резали глаз, в то время как основной язык, язык чувств и характеристик, был бедноват. Олеша умел сравнить так, чтобы было видно, как он умеет сравнить, но не так, чтобы было видно предмет.
— Неплохо, — честно одобрил Бабель. — Но надо записывать, или это умрет с вами. Может быть пьеса, монопьеса. Вы один говорите со всеми, их не видно, зритель видит только вас, но для вас они реальность.
— Я остыл к театру, потому что мне не нравятся его люди. — Олеша достал из кармана ополовиненную чекушку и прикончил в один глоток. — Я любил Мейерхольда, но он бросил меня. У Мейерхольдов было так: они брали человека, приближали к себе, делали своим, а потом выбрасывали, потому что увлекались новым. Я должен был к этому готовиться, но я — другое. Лисица знает множество вещей, еж знает одну большую вещь. Я всю жизнь думаю об одном и том же — о моем праве на жизнь. Мейерхольд думал о тысяче разных вещей, и я быстро наскучил ему. Я наскучил всем, а вы меня терпите только потому, что вас тоже интересует одна большая вещь. Вас интересует гибель, а я гибну. И вы смотрите.
— Я бы даже сказал — любуюсь, — ответил Бабель, действительно любовавшийся.
— И что, узнали вы там наконец, как это бывает?
— Как это бывает, я знал и здесь. Но что это такое, не понял до сих пор. Самое обидное, что ты и там этого не понимаешь. Более того: чаще всего даже не замечаешь, в какой именно момент это с тобой происходит.
— Но вы в раю? Я надеюсь, что вы в раю.
— Нет, друг мой, все не так просто.
— Минуту, минуту… Это интересно. Вы подождете, пока я возьму себе пива?
Бабель хотел было попросить, чтобы он взял и ему, но понял, что это будет нарушением правил, и молча кивнул. Олеша вернулся с двумя кружками, обе поставил перед собой и тщательно сдул пену с первой.
— Ну так продолжайте. Вы начали про рай.
— Я не был еще в раю, — ответил Бабель. — Был в аду, поварился там, надоел всем. Полагаю, что главные грехи мои искуплены. Теперь я в чистилище — какой-то полусвет, столы, кружки… Сегодня ночью меня переводят в рай.
— Остро… — Олеша взглянул на него исподлобья. — Из вас не выварили яда в вашем аду. Если это чистилище, то здесь неплохо. Пиво только дрянное, но оно везде теперь дрянное. Все теперь дрянное. Раньше было качественнее: и мучители, и мученики, и пытки. Теперь так себе, отрабатывают жизнь спустя рукава…
— Имеете двадцать копеек, — сказал Бабель.
— Нет, нет, меня тоже коснулось это обесценивание. Разве так я говорил раньше? Впрочем, вы не помните, там, говорят, отмирает память…
— Врут.
Олеша его не услышал — шел новый монолог:
— Но я еще могу придумать сюжет. Хотите сюжет? Вам все равно не пригодится, но если вдруг в раю потянет писать — берите. Некий изобретатель… психолог… вдруг открывает, что каждого человека можно свести с ума, подобрав к его рассудку особый код. Сказать несколько слов, и вы ребенок, или маньяк, или растение — без чувств, без мыслей… Он забавляется, подбирая эти ключи, изучая биографии, ставя опыты… И знаете ли, что выясняется? Чтобы девушка, чьей любви он домогался, утратила всякую волю к сопротивлению, ей надо прочесть древний воинственный гимн — настолько сильна ее ненависть, настолько тверда воля. Гимн войдет в резонанс с ее ненавистью, как рота солдат с мостом, и сопротивление рухнет. Но самое странное, что надо сделать, чтобы свести с ума местного тирана. Надо прочесть ему детскую считалку: эники-беники ели вареники. Ведь он дитя, всего только обиженное дитя… Самые страшные существа в мире — обиженные дети. В сущности, я всю жизнь только тем и занимаюсь, что ищу такие ключи, но пока свел с ума только себя самого…
Старик, предложивший Бабелю вяленого леща, в испуге взглянул на Олешу и, не допив кружки, с неожиданной для него быстротой вышел.
— Вот еще один, — улыбнулся Бабель.
— Да, я мог бы написать это… но теперь большие вещи уже не для меня. Я могу теперь писать только крошечные кусочки — по одной, по две фразы. Это конец, распад. — Олеша сделал огромный глоток.