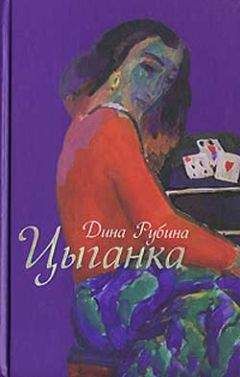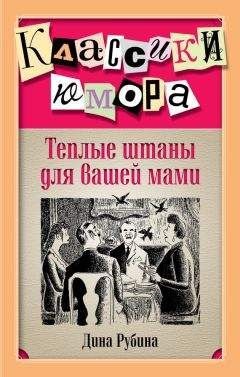Дина Рубина - Гладь озера в пасмурной мгле (сборник)
На переменах в учительской собирались преподаватели и Верку баловали – то пирожком угостят из своего завтрака, то конфетку сунут. Особенно одна, Юлия Константиновна, учитель географии, нежная такая блондинка с робкими мелкими чертами лица, подсаживалась к девочке и всю перемену с ней тетешкалась. Однажды даже конфуз случился. Верка заигралась и забыла попроситься, так и подмочила карты, которые на диване лежали. Всю Европу подпортила и часть скандинавских стран. Мать как узнала – очень расстроилась, думала, придется за карты платить. Верку отшлепала в учительской, приговаривая: «Просись, просись, стервенок, просись!»
Ничего... Все смеялись. И Юлия Константиновна до слез смеялась и говорила: «Верка осваивает географию!» И карту потом называла – «та, с подмоченной Европой»...
Она же, Юлия Константиновна, придумала, что Верка – рисует. Глупости, заметил дядя Валя, сидевший тут же, за столом в учительской. Что может рисовать ребенок в полтора года, когда еще нет нужной моторики рук? Все они просто портят бумагу, калякают по ней... А вас, Юлия Константиновна, прошу не давать ребенку переводить казенные тетради.
– Валентин Петрович! Рисует, осознанно рисует, уверяю вас! Смотрите, ведь это Кузя!
Дядя Валя спустил очки на крылья носа и поднес к глазам изрисованный Веркой листок. И сидел так некоторое время, задумчиво узнавая в неотрывной линии контур ленивой спины, завершенной изгибом хвоста общественного пенсионера, кота Кузи. Ушки тоже наличествовали, а вот морды и глаз не было. Но пластика кошачьего движения передана была изумительно точно.
– Это совпадение, – заявил дядя Валя, отбросив листок на стол.
– Да какое совпадение! Вы у нее спросите! Веруша, кто это, вот тут, на бумаге – ты кого рисовала?
Верка доверчиво смотрела серьезными серыми глазами на Валентина Петровича. Из ее носа на губу вытекла прозрачная сопля.
– Ну? – строго спросил он. – Клоп, отвечай – кто тут нарисован?
Она шмыгнула, втягивая соплю, и сказала:
– Обака...
– Как же – облако? – воскликнула Юлия Константиновна. – Ты что, Веруша, это же Кузя, Кузя?
– Кузя, – повторила Верка, вроде соглашаясь. – Кузя – обака...
– Потрясающе! – Юлия Константиновна возликовала. Она много лет безуспешно добивалась внимания Валентина Петровича и всякий раз бывала довольна, когда хоть в чем-то одерживала над ним верх. – Представляете, какое образное мышление? Она соединила в воображении облако и Кузину мягкую шерсть... Катя, у вас очень талантливый ребенок! Купите ей цветные карандаши, пусть рисует.
– Еще чего, – буркнула мать, вытирая тряпкой пыль с директорского стола. – У меня жалованье не чета вашему... На каждое баловство не напасешься...
Странно, что будучи сама талантливым изготовителем красоты, мать напрочь отвергала страсть дочери к рисованию. Может быть, потому, что в любом изделии признавала только практическую пользу. А что за польза – бумагу изводить?
***Года через полтора Катя столкнулась в гастрономе с Лидией Кондратьевной. Вернее та окликнула ее сама и даже вышла из очереди в кассу. Катя сначала отшатнулась, словно от удара, ощутила жар в сердце и обреченную тоску... Но Лидия Кондратьева выглядела очень обрадованной встрече, обняла Катю, сказала:
– А у меня, Катя, мама умерла.
– От... чего? – натужно спросила та, цепенея от тошнотворного ужаса.
– Инсульт. Мгновенно! Я на работе была, а она одна дома. Видно, забралась на стул, мух бить, ну и не удержалась, упала. Да прямо на буфет. Посуда вся вдребезги... Знаешь, прихожу – кругом осколки, черепки, а в углу мама лежит... Вот так... ужасно. Ужасно, что в последнюю минуту с ней никого не оказалось. Может, что сказать хотела, передать...
«Хотела она, как же, – подумала Катя. – Ее и удар шарахнул от ненависти, что я имущество попорчу...»
И Катя проглотила комок ужаса в горле и понемногу разговорилась тоже, хотя и весьма осторожно. Как там Коля и Толя? Спасибо, занимаются оба в техникуме, стали серьезнее и в общем выправляются...
– Кать, – с задушевной интонацией продолжала Лидия Кондратьевна (не притворялась, Катя всегда это чувствовала), – ты же хочешь о Юре спросить? Он, знаешь, подумывает вернуться из Харькова в Ташкент, все-таки, – тебе-то известно! – у него здесь были дела налажены... А там никого почти не осталось... Трудно жизнь строить заново... Но... – Она взглянула прямо Кате в глаза: – Я тебе как женщина женщине, Катя: не жалей о нем. Он дурной человек, хоть и брат мне. Дурной, злобный... Да ты и сама помнишь, как он ко мне, – к родной сестре! – относится. Все не может мое замужество простить. Я же, Катя, вышла замуж за его лютого врага. Вернее за того, кому он сам лютым врагом сделался. И причина-то какая смехотворная: оба они теннисистами были, в одной студенческой команде... То ли на соревнованиях что-то не поделили, то ли еще какая-то чепуха... Вот уже сколько лет, как мужа нет в живых, а братец все счеты со мной сводит... Не стану вдаваться, но бога благодари, что ты от него избавлена!
Катя кивала с сочувствующим бабьим лицом, поднимала брови, ахала, качала головой...
Внутри закаменела вся...
О Верке не сказала ни слова.
Ни слова.
***...Это было время, когда ступала она мягко и опасливо, как затаившаяся рысь, почуявшая легкую и шальную добычу... И счастливую встречу с Лидией Кондратьевной, встречу, снявшую с ее души свинцовую гирьку потаенного страха, расценила как некий благословляющий знак. Хотя вряд ли кто – там, на небе, – мог благословить ее на дело, в которое она входила сейчас осторожно и постепенно, как в дикую горную речку входят – трижды пробуя шаткий камень, прежде чем утвердить на нем ногу...
В дело входила попервоначалу на правах «верблюда» – на мизерных правах простого перевозчика...
...Месяца три назад ее окликнула в трамвае старая знакомая, спекулянтка Фирузка, когда-то скупавшая ворованные на ке-нафной фабрике нитки и материю, – лихая оторва с золотыми зубами, пересыпавшая узбекские слова русским матом. За эти годы она постарела, немного остепенилась с виду. Но клокотала в ней по-прежнему какая-то неиссякаемая радостная злость.
– Катькя, ти знакомий как не узнал, джалябкя! Они обнялись...
И на другой день, в назначенное время к скамейке на Сквере, под памятником Карле-Марле, Фирузка привела не кого-нибудь, а Сливу, все того же Сливу, ушлого и бессмертного, как сама Тезиковка, как Сквер, как древнее ремесло барыги, «не помнящего, – как уверял он, – худого»...
– А я, Кать, сразу понял – кого это Фирузка имеет в виду... И обрадовался, ей-богу! Помню твою хватку, дрёбанный шарик!... А в нашем деле это – первая необходимость... Часики-то помнишь, артистка? Аксы-балансы-маятники-цифербла-ты?... Часики теперь тикают без меня – отыгранный бизнес... А вот если серьезно хочешь заработать, – милости просим, но будешь по моим правилам играть...