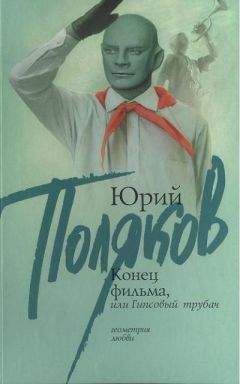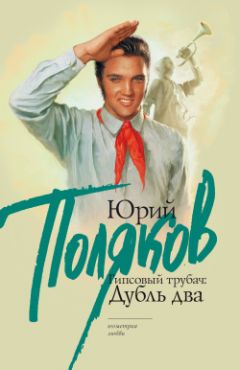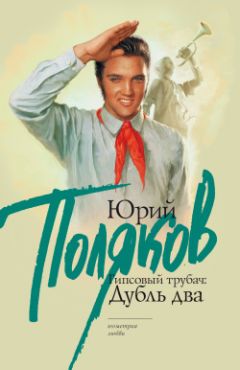Юрий Поляков - Гипсовый трубач: дубль два
Из кабинета вышел высокий желтый дед.
– Ну, что сказали? – встала ему навстречу старушка, судя по неуловимым приметам, не жена, а рано увядшая дочь.
– Доктор говорит: очень хорошие анализы! – клокоча мокротой, ответил старик. – Таких хороших еще не было!
Следом за стариком выглянула молодая медсестра в туго перетянутом белом халатике:
– Кокотов! – позвала она.
– Я! – удивленно откликнулся писатель, непривычный к тому, чтобы в его фамилии правильно ставили ударение.
– Зайдите! – пригласила девушка, глядя на него с особенным интересом.
Андрей Львович боязливо покосился на очередь, ожидая протестов, однако неудовольствие, и то неочевидное, выразил лишь пациент с дорогими часами. Остальные, казалось, наоборот, испытали чувство облегчения оттого, что переступят порог неизвестности чуть позже.
Шепталь был высок, лыс, подтянут и весел. Он и Оклякшин стояли у ширмы, отгораживавшей кушетку, и оба смотрели на вошедшего в кабинет с тем насмешливо-ободряющим выражением, какое, наверное, врачам выдают вместе с дипломом по окончании мединститута.
– Мой одноклассник! – чересчур радостно отрекомендовал Пашка.
– Не может быть! – воскликнул профессор и переглянулся с медсестрой, обращая ее внимание на утреннюю несвежесть заместителя главного врача по хозяйственной части.
Девушка в ответ закатила глаза, давая понять, что обнаружила факт нетрезвости начальства еще раньше. Дернув плечиком, она уселась за стол и разложила перед собой бланки.
– Писатель! – гордо добавил Оклякшин.
– Неужели? И что же вы пишете?
– Прозу.
– Это хорошо. А стихи еще кто-нибудь сочиняет?
– Сочиняет… – неуверенно ответил Кокотов.
– Ну, вы меня успокоили! Присаживайтесь! – Шепталь показал на смотровое кресло, напоминавшее зубоврачебное, надел себе на голову обруч с прикрепленным к нему зеркальным диском и включил лампу. – И где же у нас выросла бяка?
– В носу. Слева…
– Не волнуйтесь – найдем! – доктор расширил ноздрю с помощью инструмента, напоминающего по виду никелированные щипчики, и сквозь увеличительное стеклышко заглянул в писательский нос.
При этом лицо его приобрело то выражение, какое бывает у мастеров, исследующих сломавшуюся стиральную машину.
– Не бойтесь!
– Я не боюсь…
– Ну, и правильно! Тэк-с, тэк-с… Ага, вот она. Поня-атно! – Шепталь скосил глаза на Оклякшина и чуть отстранился, давая и ему возможность заглянуть в проблемное отверстие.
Пашка наклонился, нахмурился и тоже стал похож на специалиста по ремонту бытовой техники.
– Вижу-вижу… – обрадовался он.
Доктора озабоченно переглянулись, затем безмятежно заулыбались, а Оклякшин даже коротко хохотнул:
– Я-то уж думал…
– А что там? – подозрительно спросил Кокотов.
– Пока ничего серьезного… – ответил Шепталь, быстро осмотрел правую ноздрю, уши и заодно пощупал пациенту шею. – Но для спокойствия сделаем соскобчик и отправим в лабораторию. Любочка, дайте кюретку!
Медсестра подала ему блестящую стальную закорючку – и Кокотов вскрикнул от боли.
– Потерпите! Всё, всё! Вот ватка! Прижмите! Любочка, записывайте: первичный осмотр, консультация, анализ на гистологию… А что, Евтушенко теперь в самом деле в Америке живет?
– Да…
– Странно для русского поэта…
– А он вообще странный, – подхватила медсестра, внимательно глядя на писателя. – Его тут по телевизору показывали. Красный пиджак в синих розах и кепка с помпоном! Андрей Львович, сколько вам полных лет?
– 46…
– Надо же!
– А что?
– Хорошо выглядите. Адрес?
– Ярославское шоссе, дом 78, кв. 57.
– Телефон?
– Домашний?
– Лучше мобильный.
Диктуя номер, Кокотов с тревогой заметил, что врачи отошли к окну и тихо беседуют.
– Андрей Львович, сейчас с этими бумагами пойдете в кассу…
– Люб, не надо, дай сюда! – вмешался Пашка.
– Да-а? – девушка вопросительно поглядела на профессора и, только дождавшись его кивка, протянула заполненные бланки Оклякшину.
Когда одноклассники уходили, Шепталь крикнул вдогонку:
– Пал Григорич, ты когда мне кушетку заменишь?
– А что случилось?
– Расшаталась!
– Что ж вы на ней такое делаете? – Пашка подмигнул Кокотову.
– Как вам не стыдно! – воскликнула Люба, заливаясь краской заслуженного смущения. – Еще и при писателе!
– Испугались? Отобразит – тогда узнаете! Ладно, в начале месяца придет новая мебель, выберу вам самую крепкую!
– Ну, спасибо! – неловко засмеялся профессор.
Слушая эти пикантные препирательства, Андрей Львович почти совсем успокоился: ну не будут же они, в самом деле, так дурачиться в присутствии человека, у которого обнаружено что-то страшное! В коридоре, поймав на себе взгляды пациентов, дожидавшихся в очереди, автор «Любви на бильярде» все-таки не удержался и спросил беззаботным, но почему-то хриплым голосом:
– Ну и что у меня там?
– Ничего страшного.
– А зачем анализ?
– Врач, Андрюха, должен сначала исключить самое неприятное!
– А что самое неприятное?
– Самое неприятное – похмельный синдром. Может, по чуть-чуть?
– Нет. Не могу. Зачем тогда анализы?
– Анализы на всякий случай, чтобы ты успокоился!
– А сколько надо заплатить? – спросил писатель, чувствуя во рту медный привкус скаредности.
– Нисколько.
– Как это?
– У нас сейчас один банкирчик полный осмотр проходит. То да се. Я на него запишу, он и не заметит. Фирма платит. Капиталистический коммунизм. Понял?
– А когда будет результат?
– Дня через три-четыре. Я тебе позвоню.
– Спасибо…
– Пока не за что. Не переживай! Скорее всего это невус… – успокоил Оклякшин, глядя мимо одноклассника.
– Какой еще невус?
– Эпидермальный.
– Это что?
– Фигня по сравнению с мировой революцией! А я все-таки выпью…
15. Человек-для-жизни
Выйдя на улицу из больничного сумрака, Кокотов замер на ступеньках, ошеломленный яркой сентябрьской свежестью. Солнце выбралось наконец из кроны огромной липы и светило теперь беспрепятственно, в полную осеннюю силу. Черно-белый кот так же спал, вытянувшись, под деревом. А вот одинокой полоски с телефоном умельца, прерывающего беременность взглядом, уже не было – оборвали. Андрей Львович вынул из ноздри ватку и убедился в том, что сковырнутая «бяка» больше не кровит. В воротах он обогнал деда «с очень хорошими анализами». Тот, согнувшись, кашлял, клокоча и задыхаясь. Старушка-дочь терпеливо дожидалась, пока приступ закончится, и на ее лице застыла гримаса измученного сострадания.