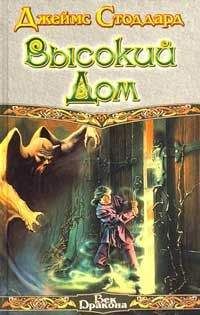Владимир Шаров - «Мне ли не пожалеть…»
Особенно обрадовало нас, что с каждым часом к отряду присоединялось больше и больше домашней скотины, конечно же, не знавшей подобных страданий. Как крестьяне ни плакали, ни молили ее остаться, как ни заманивали обратно лаской, уговорами, теми же горячими булками и кусками соли, она шла и шла к нам из самых дальних сел, куда только доносилось мычание освобожденных животных. Когда я первый раз говорил со шлюза с бычками и телицами, мне казалось, что едва треть их может ходить — остальные или пали, или вот-вот падут, но в Кимры мы привели почти всех животных с барж и еще тысячи, живших но окрестным селам. Так что я мог теперь сказать, что иду не один, а Веду за собой великое множество скота.
Тогда я гордился этим, душа моя радовалась и ликовала, но сейчас я понимаю, каким плохим пастухом оказался. Я не должен был, ни за что не должен был вести их в Кимры; город был нашим врагом, он нес нам смерть, и мы были обязаны обойти его стороной. Я мог это сделать, я поклялся привести их на выгон, который находился тремястами метрами выше Кимр, где были спевки лептаговского хора и не имел права нарушить клятву. Я вел их к Лептагову, чтобы, поддержанные всей мощью людских голосов, они воззвали к Господу и услышали от Него слова милости и прощения. Но они не дошли до выгона, погибли в Кимрах, так и не обратившись к Господу, и в этом виноват я один.
Всех нас опьянила свобода, и, войдя в город, никуда дольше в тот день они идти уже не захотели. Я ничего не мог с ними поделать, как я ни уговаривал, как ни убеждал их, они меня не слушались. Я кричал, плакал, молил, я грозил им самыми страшными карами, но они не обращали на мои слова внимания. В Кимрах тогда проходили репетиции октябрьских торжеств; город весь был украшен красными флагами, по улицам то там, то здесь под теми же красными знаменами маршировали колонны школьников, рабочие местной меховой фабрики и промкооперации. Это не имело к нам ни малейшего отношения, но при виде демонстрантов глаза моих быков снова налились кровью и они будто на какой - нибудь корриде набросились на несчастных, в одно мгновение разогнав их. Не успокоившись на этом, они принялись с остервенением рвать и топтать копытами красные тряпки. Впрочем, несмотря на то, что нам сейчас приписывают, ни один человек тогда не был ни убит, ни покалечен.
Потом они принялись захватывать здания, в которых помещались государственные учреждения, почту, телеграф, отделение банка, установили свою охрану на мосту через Волгу. Все это они делали сами, я их тут ничему не учил, это словно было у них в крови. Правда, здания, о которых я говорю, как и уездный комитет партии, будто нарочно были помечены красными флагами, и, возможно, объяснение в этом.
Повторяю, что тогда я никоим образом ими не командовал, хотя не решусь отказать в разумности их действиям. Разделившись на небольшие отряды, они взбирались по лестницам на вторые, на третьи этажи, врывались в кабинеты и там крушили что только можно: наколов на рога, выкидывали в окна пишущие машинки, разбивали копытами телефонные и телеграфные аппараты, вырывали из стен провода спецсвязи, но людей они не трогали, даже уездного секретаря райкома не тронули, лишь согнали городское начальство в каменный сарай и заперли, чтобы они не могли шпионить или организовать сопротивление. И то это посоветовал им я, они же готовы были простить всех, всех и каждого, зла они не держали ни на кого.
Захватив город, бычки и телицы успокоились, они, похоже, верили, что если так же поступят и их собратья в остальных уездах, то мир сам собой сразу сделается справедлив. Они никому не хотели ничего навязывать, никуда не хотели идти, даже помогать никому не хотели; они и вправду считали, что каждый должен жить, как считает нужным. Возможно, неподдельная любовь сотен и сотен коров к своим хозяйкам убедила их, что не все в мире столь просто, и многие из быков, я это доподлинно знаю, скоро начали раскаиваться, что повели домашнюю скотину за собой. Позже им довелось увидеть, как эти коровы на их глазах гибли, и — умирая — быки только о том и могли говорить, что виновны в их смерти и это тот грех, который Господь им никогда не отпустит. Но это было позже, пока же в городе шло форменное братание людей и животных, и я, понимая, насколько важно, чтобы все и дальше обошлось без крови и жертв, дал указание, чтобы обе городские булочные работали в три смены и чтобы вообще везде, где могли, пекли хлеб дома, дабы каждый был накормлен досыта.
Утро в городе начиналось с одного из самых трогательных зрелищ, каких мне в жизни случалось быть свидетелем: из домов, из лавок, из обеих пекарен выносились целые противни еще горячего хлеба и щедро, из рук, дети и взрослые, мужчины и женщины, даже древние старики — словом, все наперегонки спешили накормить животных, гладили их, называли ласковыми именами, обнимали за шею, целовали в губы, говорили: «Боже, какой ты у меня худой — кожа да кости», — и так, обняв, плакали вместе с ними.
Не знаю, что повлияло больше, обилие еды или любовь, но животные оправлялись очень быстро и теперь были уверены, что благодаря своей численности и решительности смогут отстоять город. Между тем то и дело возникали слухи, что Кимры скоро окружат и начнут штурмовать регулярные войска. Ко мне чуть ли не каждый час приводили кого-нибудь, кто утверждал, что воочию видел хоронящихся за ближайшими холмами солдат в защитной форме, но всякий раз это оказывалось фантазией и в городе снова возникала надежда, что, может быть, все обойдется. Впрочем, разумные люди понимали, что никогда московские власти не примирятся с потерей города, находящегося лишь в ста километрах от Кремля.
Надо сказать, что быки теперь и вправду были очень сильны и готовы на самую отчаянную оборону. Москва через лазутчиков это знала и, может быть, здесь — объяснение, почему первые воинские части появились рядом с Кимрами только на седьмые сутки после захвата города. Главную роль при штурме Кимр должна была сыграть дивизия им. Дзержинского, элитное армейское соединение, лучше всего обученное и использовавшееся лишь при особо опасных заданиях. Дивизия развертывалась не спеша: трое суток прошло, пока она обложила целиком город и окопалась на окружающих Кимры холмах, а также у моста через Волгу. Теперь в город нельзя было ни войти, ни выйти, но люди продолжали надеяться, уговаривая себя, что штурма не будет, дело кончится осадой, а потом переговорами и миром.
В общем, прибытие войск не вызвало я городе паники, на которую в Кремле рассчитывали, и когда это стало ясно, дивизия начала готовиться к активным действиям. Быки по-прежнему были настроены очень решительно, и, зная это, войска выбрали весьма мудрую тактику: они не пошли на прямой штурм, а принялись шаг за шагом отсекать от города стоящие на отшибе дома. Захватив подобный дом, они сразу возводили вокруг него глубокий ров с укрепленными на дне кольями, перебраться через который быки никак не могли; несколько их контратак, несмотря на отчаянный героизм, быстро захлебнулись. Так, почти нарочито, не спеша, дивизия сужала кольцо, постепенно оттесняя быков в узкие кривые улочки верх ней части города, туда, где их огромным телам трудно было развернуться» где быкам не хватало места, чтобы быстро перегруппировать, собрать силы для атаки или, наоборот, для обороны. Осада продолжалась две недели, день за днем, причем рядом с городом, на выгоне, все это по-прежнему до позднего вечера шли спевки, там каялись и взывали к Богу, но тех, кто был в городе и вот-вот должен был погибнуть, никто ни разу не вспомнил, никто ни разу за них не помолился. В Кимрах были хорошо слышны покаянные песнопения хоря, и на всех — и на людей, и на животных — это, конечно, производило гнетущее впечатление.
Тактика, выбранная дивизией, оказалась точна, войска практически не несли потерь и очень скоро это неуклонное продвижение врага вперед, без малейшей возможности ответить ударом на удар, породило в лагере быков уныние. Особенно тяжело давалась им необходимость постоянно быть на страже и связанное с этим недосыпание. Но для главной части операции медленная осада была лишь подготовительным этапом. И 22 ноября, когда быки были наконец полностью заперты в верхней части города, последовал приказ командира дивизии генерала Рамина штурмовать Кимры. В этом приказе был и еще один страшный пункт, поначалу секретный, — живым никого не оставлять. Рамина долго убеждали, что приказ несправедлив, что его жестокость не имеет никакого смысла. Особенно активны, конечно, были крестьяне, чья скотина, увлеченная общим движением, фактически случайно оказалась в городе. Но Рамин был непреклонен, он сказал, что приказ получен из Москвы и он его выполнит во что бы то ни стадо. Причина этого варварства была одна: Кремль боялся, что, если пощадить хоть одну корову, революционная чума разойдется по всей стране и восстания скота, у нас, где животные каждую весну пухнут с голода, станут регулярными.