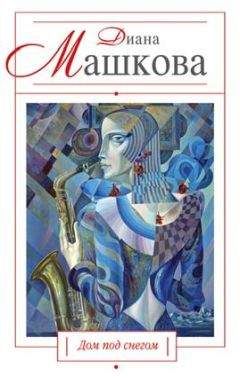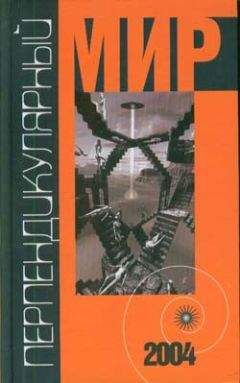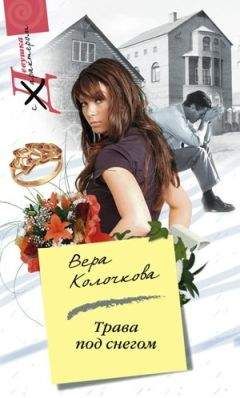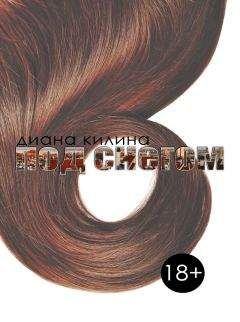Евгений Богданов - Случайный вальс: Рассказы. Зарисовки
Поколоть дров — бралась за топор, если дрова кончились — запрягала лошадку в дровни и отправлялась в лес рубить березняк. Каргополы всем дровам предпочитали берёзовые, их можно топить прямо с воза непросушенными, они хоть и разгорались долго, но жару от них и угольев для самовара хватало.
Каргополочка умела «гасить»[12] известь и белить потолки в доме, мыть полы голиком с дресвой до желтизны, до блеска. В старые времена в деревнях полы не красили, стены в избах не оклеивали, все было натуральным, деревянным, и воздух в жилых помещениях стоял сухой и свежий.
А как пели каргополочки! Вот, например, как было в Ошевенске.
…Ясный и тёплый субботний вечер. Женщины ждут мужей с покосов. Они целую неделю жили в избушках и работали на дальних лесных пожнях, а в этот вечер должны вернуться на отдых домой, помыться в баньке, провести воскресенье в семьях. Женщины днём окучивали картошку за гумнами, их с работы отпустили пораньше. Быстро сделав домашние дела, наносив воды в бани и затопив их, они собирались на штабельке брёвен на улице поговорить о том о сём, посудачить. Сидели, беседовали, а потом вдруг притихли. Одна сказала:
— Матрёна, запевай-ко!
Матрёной звали нашу соседку. Она была выше среднего роста и, несмотря на возраст, еще довольно стройна и приглядна. Лицо у неё строгое, брови тёмные, почти сросшиеся у переносицы, а глаза из-под них смотрели светлые-светлые, такие голубые и добрые. Иногда в них можно было заметить этакую меланхолическую задумчивость, мечтательность. Зубы ровные, чистые, только на одном поблёскивала золотая коронка. Поэтому её и звали Матрена Золотой зубок. Тем она и выделялась среди соседок — ни у кого из них больше золота во рту не было, да и в кубышках, наверное, тоже, разве что берегли иные обручальные колечки…
Одета Матрёна в простой домотканый сарафан в клеточку и ситцевую кофту с коротким рукавом. Руки от локтя до кисти загорелые, сильные, жилистые — в работе жирок не копится.
Матрёна поглядела на подружек.
— Дак чего запеть-то?
— Давай «Сад». Пока баня топится, споём-ко.
— Ладно.
Матрёна опускала с головы на плечи свою косынку, голубые ее глаза устремлялись вдаль, становились мечтательными. Она запевала низким и сочным «грудным» голосом:
Уж ты, сад, ты мой сад,
Сад зеле-е-ененькой,
«Товарки» дружно подхватывали:
Что ты рано цветешь,
Осыпа-а-аешься?..
Матрёна опять выводила уже погромче, голос ее окреп.
Что ты рано цветешь, осыпа-а-аешься?
Другие вторили:
А куда ты, милой мой,
Да собира-а-аешься?
Кончилась песня — завели другую. Солнце за их спинами клонилось к горизонту, от штабелька с брёвнами на траву легла тень. Небо очистилось от облаков, зазолотилось, и речка Чурьега поодаль тоже успокоилась, перестала рябить, поверхность ее стала зеркально чистой и тоже золотистой. Башенки и стена Ошевенского монастыря отражались в ней белые, неподвижные.
В разгар пения в соседнем межутке[13] пожилой мужик вдруг принялся что-то тесать топором. Песельницы рассердились:
— Погоди стучать! Приспичило тебе!
Мужик, посмеиваясь, вонзил топор в плаху, достал кисет и прислушался. Кто шел мимо — присоединялся к хору, и голоса звучали все сильнее, все стройнее. Были в этом хоре и «верхи», и «низы», голоса и подголоски. Увлеклись, забыли про всё на свете. У Матрёны на щеках расцвел румянец, глаза заблестели — не дашь ей сорока лет. Двадцать, и всё тут…
Наконец хор умолк. Одна из женщин, что помоложе, низенькая, полногрудая, со смешливыми карими глазами, как на пружинках, высоким речитативом выложила «остатнюю» песенку:
Я по травке шла,
По муравке шла,
Я клубок нашла:
Клубок катитсе,
Нитка тянетсе,
Клубок дале, дале, дале,
Нитка тоне, тоне, тоне…
За нитоцьку принялась —
Нитоцька порвалась,
И вся песня извелась…
— Всё! — выдохнула певица напоследок и всплеснула руками. — Ой, про бани-то и забыли! Уж, поди-то, протопились. Надь ладить… А то мужики скоро придут. Ох-ти-мнешенько![14]
И побежала. За ней снялись со штабелька и остальные, заспешили кто куда. Мужик опять засмеялся, покачал головой и взялся снова за свой топор.
Каргополочки очень рукодельны. Зимой сидели за прялкой, вытягивая веретеном тонкую суровую нить изо льна. Из таких нитей на станках-кроснах ткали холсты. А ранней весной расстилали их по солнышку на снег — отбеливать. Потом мыли холсты, гладили и шили из них белье, сарафаны, кофты, полотенца. Полотенца вышивали по концам больше «крестиком», красной шерстяной нитью. Узоры — петухи, стебли с цветочками мелкими.
Обработка льна требовала много труда. Привезя его с поля, «бруснули» — обивали головки с семенем. Затем выдерживали стебли на траве, под росами, мяли на гумнах мялками, отбивая костру — грубую оболочку стеблей, расчесывали лён, свивали его в «пасма» — толстые мотки. Затем привязывали пучки льна к прялкам и брались за веретёнца.
На домашних станках ткали также половики-дорожки с разноцветными поперечными полосками. Материалом служили лоскуты из всевозможных старых одежек. Основой ткани была льняная прочная нить. Всю зиму в избах мягко постукивали деревянные ткацкие станки, жужжали веретёнца.
А Матрену Золотой зубок после того я видел дважды в разные годы — сначала с внуком, а потом и с правнуком. О последней встрече, пожалуй, стоит рассказать.
КОЛЫБЕЛЬНАЯ
Давно, ой как давно не был я на родине, в своей деревеньке, и всё-таки она всегда неразлучно была со мной. Я часто думал о ней, вспоминал речку Чурьегу, что петляет среди полей, ельников и небогатых травостоем покосов с лесными старинными избушками, высокие серые избы с коньками, осторожно спускавшиеся к каменистому берегу курные баньки. Иногда мне даже снились кувшинки в розовой спокойной воде, золотистое песчаное донышко реки, запруда бывшей монастырской мельницы с перекинутыми поверх неё «оследями» из могучих сосновых брёвен. А однажды приснилась деревянная зыбка, подвешенная в избе на скрипучем очепе, и моя бабушка Марья Константиновна, которая качала зыбку и пела мне песенку:
Спи, усни, — угомон тебя возьми!
Сон да дрема у тя в сердцах,
Баю-бай, ба-бай…
Бабушки моей давно нет в живых…
Что же теперь там? Как живут мои земляки?
И вот как-то осенью, махнув рукой на все дела и заботы, я решил посмотреть свою деревеньку не во сне, а наяву.
Была пора, когда лето неохотно покидало землю, упорно цепляясь за еще довольно сочные листья черёмух-малолеток, за малахитовую травку по низинным местам. И все же оно уходило, лето, бледнело перед осенью, которая стучалась в окошки и калитки резковатыми восточными ветрами. От этих ветров, будто красные девицы, смущенно пунцовели рябины, а не стойкие к холодам осины уже теряли листья.
Но что было хорошо в эти дни, так это небо — огромное, необъятное, оно привлекало прозрачной емкостью. Казалось, и в дневное время, присмотревшись, в нём можно увидеть звёзды, которые только и ждут там, чтобы засверкать вовсю, когда, наконец, стемнеет.
Я очень люблю светлое, родниковой чистоты небо в конце сентября, когда оно еще не застлано тяжелыми дождевыми облаками. Они еще только подкрадываются откуда-то из дальних-дальних краёв, невидимые за окоёмом.
И когда смотришь на поля, на ельники, на это глубокое небо и открывающиеся взору близкие и дальние деревушки, кажется, что заново знакомишься с этой древней русской землёй, на которой рождались богатыри, волоокие русоволосые красавицы, былины и сказки, приятные слуху, как приятна родниковая вода в летний, истомленный жарой полдень.
Сойдя с попутного грузовика, который вёз в сельпо ящики с мылом, бочки с рыбой и другие товары, я не без радости почувствовал под ногами родную землю. В деревне было пустынно. Только с берега доносились голоса ребятни, да где-то на задах погромыхивал трактор.
Избы всё те же — высокие, с коньками на концах охлупней. Только от дождей и зимних вьюг они кое-где покосились, потемнели. На иных белели шифером новые крыши, иные обшиты вагонкой и выкрашены голубой масляной краской. А некоторых изб я недосчитался, потому что не был тут давно, и многое, конечно, изменилось.
Не изменилась только колыбельная песенка. Я даже остановился в волнении, услышав ее из распахнутого окна. Я стал гадать, чья это изба, и, наконец, вспомнил о нашей соседке — певунье Матрёне Золотой зубок. Она уже давно, еще до Великой Отечественной войны, потеряла мужа и жила здесь безвыездно.
Песенку эту, бывало, любили петь старухи у колыбели внуков и правнуков почти в каждой избе. Я прислушался. Голос певуньи был слаб и глуховат, но она всё же старательно тянула своё «баю-бай»: