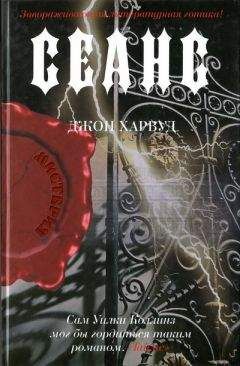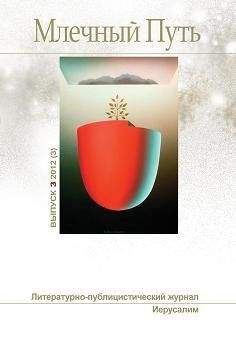Вержилио Феррейра - Явление. И вот уже тень…
Между затяжками, предваряя серьезный разговор, он спросил:
— Вы уже знаете результат конкурса?
— Не прошел, сеньор ректор. Занял третье место.
— Да… И нигде больше не пытались. Только в Лиссабоне?
— Только в Лиссабоне.
— А-а… Но как будто есть еще конкурс в…
— В августе буду пытаться.
— Так. И, если не пройдете, вернетесь в Эвору?
Я понял. Понял все. Ты, добрый человек, хотел, чтобы я ушел сам. Я, как видно, был лишним в твоем невозмутимом царстве педагогических советов.
— Не знаю. Но пока у меня никаких других проектов нет.
— Да. Эвора — прекрасный город. Эвора — город необычный. И он недалеко от Лиссабона. Но, например, Сетубал, или, скажем, Сантарен, или же Лейрия… Конечно, там возможностей меньше. Но и у Эворы есть свои против. Здесь все всё знают, а если не знают, то выдумывают. Именно так…
Он как бы предлагал мне самому заговорить о случившемся. Но я сдержался, не зная, как это сделать. Тогда он умолк, опустил глаза, оттопырил нижнюю губу и принялся стучать карандашом по столу. Потом возобновил разговор:
— Сплетни здесь всегда ходят, и даже не желая слышать, слышишь. Ничего не поделаешь. Вы неопытны, молоды… Иногда считаешь, что поступаешь верно, но нужно знать, с кем имеешь дело.
— Я не совсем понимаю, о чем вы, сеньор ректор? За мной ничего, в чем можно было бы меня обвинить, нет.
— Ну… Она ведь не в себе, и… ее отец хорошо это знает. А потом, этот глупенький, этот мальчишка… Но честь лицея, честь дома.
Я покраснел, покраснел глупо, как девица. И даже на какой-то миг почувствовал опустошенность, утрату всякого руководящего мной здравого смысла. И ничего не ответил. Но ректор понял все. И, видя мое смущение и явную незащищенность (говори, идиот, есть у тебя собственное достоинство или нет? Отвечаешь ты за свои поступки или нет? Держишь свою линию в жизни?), завершил нашу беседу:
— Ну, я думаю, вам все ясно. Н-да, такова жизнь. Вы еще молоды, а опыт — дело нелегкое… Всего доброго.
И все же, что говорили обо мне в городе, я так и не узнал. Но, выйдя из лицея, каждый обращенный на меня взгляд воспринимал если не обвиняющим, то насмехающимся. Открыто же никто и ничего мне не говорил. А мое полное молчание стало очень скоро мне защитой, такой же защитой, как темные очки. К тому же возможно, что ректор преувеличил. А тут на носу пасхальные каникулы. Пройдут каникулы, и все волнения настоящего уйдут в прошлое. И все-таки встречи с Моурой я боялся. Но для добряка Моуры (как и для всей его семьи) смерть Кристины была слишком черной ночью, чтобы на что-либо обратить внимание. В этом я убедился, когда, столкнулся с Алфредо. Я часто после уроков бежал из города — либо к себе в дом на холме, либо в деревню. И вот однажды я сидел около речки, что пересекает дорогу в Алкасовас, так, чтобы видеть свою машину, стоящую на обочине дороги. Вдруг вижу, около машины останавливается джип и из него выходит Алфредо. Машинально я помахал ему, и он подошел ко мне. Он был в своей обычной куртке (только с траурной повязкой), тиковых брюках и высоких сапогах. Я представлял, что Алфредо раздавлен случившимся, но, как видно, по глупости, легкомыслию или наглости с ним этого не произошло.
— Мне показалось, что это ваша машина, и я сказал себе: может, здесь действительно доктор?
— Он самый, — ответил я.
— Но что за идея приехать сюда, в эти края?
— Я люблю смотреть на воду, смотреть на тростник.
Он сел со мной рядом на один из тех камней, что так часто встречаются в дубовых рощах. Я спросил об Ане, о ее родителях. Он же, весело шлепнув меня по плечу, спросил:
— А что это за история с Каролино? Вот мошенник, какого черта ему надо?!
Я пошел, и охотно, на предлагаемое мне Алфредо взаимопонимание и тут же неожиданно для себя тоже посмеялся над выходкой Каролино.
— Смотрите-ка, Софизинья провоцирует дуэли. Вот одержимая!
— А как ваша жена? Как перенесла она смерть Кристины?
— Аника, конечно же, потрясена, очень потрясена. Я даже решил увезти ее, чтобы хоть как-то отвлечь. Она сама выбрала место. И вот мы были в горах и на пляже Роша. Только позавчера вернулись.
— А где в горах?
— В Ковильяне. На Скалах здоровья. Но знали бы вы, доктор, сколько мне пришлось вынести с Аникой.
И он рассказывал, рассказывал, как посторонний, долго, пространно, о длительном молчании Аны, о ее бесконечном сидении у окна, вперив взор в снежный горизонт, об одиноких прогулках по дороге среди сосен (она не желала, чтобы муж ее сопровождал, «а я всегда подчиняюсь ее приказам»). Потом они поехали в Рошу, но только не через Эвору и не через Лиссабон. И снова она впала в задумчивость. Бродила по пляжу, иногда даже ночами, садилась на торчащие из воды камни. Я ее спрашиваю: «Аника, тебе нужно что-нибудь? Тебе нездоровится?» И только и слышал: «Оставь меня».
— А тут еще появился Шико. Шико должен был ехать в Алгарве, по работе, и проезжал через Рошу. Но на этот раз ему не повезло: Аника послала его ко всем чертям.
Я посмотрел на Алфредо. Он смеялся своим глупым смехом, смехом беззубого, краснощекого болвана. Я абсолютно уверен, что Шико никогда не интересовал Ану. Да и Алфредо это знал, знал не хуже меня. Однако даже гипотеза доставляла ему удовольствие — удовольствие от унижения. А может, Шико питал надежды? Все может быть. Ведь Алфредо располагал к этому, даже, казалось, способствовал. Но ты, Ана, ты так величественна, так прекрасна в твоем самоутверждении, что просто невероятно, чтобы Шико воображал о тебе то, от чего ты так далека. Шико? Нет, я не мог себе это представить не только как предательство, но даже как сообщничество, подобное сообществу со мной.
То, что Ана переживала кризис, было очевидно. Я очень хотел с ней повидаться, — ведь она знает подлинно глубокий смысл слов.
— Я несколько раз приходил к вам, но никого не заставал.
— Повремените, доктор, еще немного повремените. Пусть пройдет какое-то время. Моей Анике нужен отдых. Она очень опечалена, вся в себе. Вы придете, начнете философствовать. Она все принимает к сердцу, боюсь ее расстроить. Потом, мы еще с полицией не все утрясли, ну в этом деле. Конечно, это несчастный случай, что же еще? Я даже думать не хочу. Экспертиза подтвердила, что сломалась тяга рулевого управления. Да и о каком преступлении тут можно говорить? Бедняжка Кристина…
У наших ног, болтая с голыми окрестными полями на недоступном нам языке, бежала река. Пучки тростника кружились в воде, бились о берег, навевая образ свежести и отдохновения от жаркого лета на равнине.
— А София?
— А Софии в Эворе нет… Вроде бы Софизинья осталась в Лиссабоне. Нет, вру. Она вернулась в Эвору, а потом опять уехала в Лиссабон. Поехала узнать, можно ли постричься в монахини. Еще здесь, в Эворе… решила и уехала в Лиссабон. Она все обдумала.
Да. Странно, что я ее вспоминаю. Будто и не противился принять ее, как свою судьбу. Конечно же, я ее забыл, забыл, потому что очень скоро понял, что она мне чужая, так как не ощущал ее отсутствия. Но что же для меня существенно? Без чего я себя не мыслю? Может, слишком узок круг моих желаний по сравнению с моими возможностями? Я нашел себя в отрицании и поиске, да и разве вопрошать не значит хотеть получить ответ? Есть же люди, которые только и делают, что утверждают, а если вдруг отрицают, то опять же для того, чтобы утверждать. Утверждают самое разное, но сущность утверждения остается та же. Порой я спрашиваю себя, сколь глубока в них эта категоричность. Меж тем их самих это нимало не волнует. «Так что же такое подлинность?»— спрашиваю и спрашиваю я себя. Поддаться соблазну (украсть, убить или совершить что-нибудь предосудительное) или не поддаться — возможно, это одинаково подлинно;—ведь и тот, кто поддается, и тот, кто не поддается, считает себя стойким в создавшейся ситуации. Так почему же он совершил или не совершил тот или иной проступок? Так ли уж велик соблазн, если человек может противостоять ему? Кто-то утверждает, потому что он таков, равно как кто-то отрицает, потому что таков он. Разве не так? Тогда мой удел — вечное беспокойство, удушье от пустоты? И стало быть, цель моей борьбы — пустая мечта, и эту цель я выдумал, чтобы придать значимость борьбе? Я знаю, чего хочу, сейчас, когда не имею. Что же нужно будет выдумывать или открывать в себе, чтобы узнать, получил ли я то, что хотел, и когда получу, если вообще получу? Потому что я-то знаю, что я хочу, но жизнь может и не знать. Жизнь — это тоже я, но то, чего я не знаю, это — завтрашний день.
В этот вечер я оставил свою машину для смазки в гараже. А поскольку к предстоящему уроку мне нужно было посетить библиотеку у храма Дианы, я пошел туда пешком. Дождило, но не очень сильно. Какое-то время я все же постоял на пороге, но потом, надеясь, что не промокну, рискнул и, подняв воротник, двинулся через улицу. Однако почти у собора обрушивающиеся мощные потоки дождя заставляют меня укрыться в портике. С невероятной силой вода хлещет по мощенной камнем площади, от камней поднимается пар, словно они дымятся. Время от времени дождь, точно холерик, то идущий на попятный, то вновь наступающий, стихает и тут же снова принимается лить как из ведра, создавая плотный водный занавес. Какое-то время я, не зная, что делать, стою, поглядываю в сторону готических надписей, сделанных на надгробных плитах, на начальные буквы отдельных ступеней, на бледную вереницу апостолов, нелепо стоящих на колоннах. Но когда воздух сотрясают мощные раскаты грома, инстинктивно вхожу внутрь собора. Величавое безмолвие сводов, никем не занятые пустующие ряды скамей ввергают меня в кошмар. Нефы пустынны и погружены во мрак, усугубляемый шумом стучащего в витражи дождя, что воскрешает в памяти катакомбы, оглушенность, убежище. Я слежу глазами за торжественно уходящими вглубь сводами и чувствую, как, в оцепенении блуждая по простору сводов, я лишаюсь себя самого. Неожиданная вспышка молнии, словно вестник бога, озаряет витражи и безмолвие собора. Я жду последующего грома — гнева небес, и восстанавливаю в памяти вознесшиеся к тучам шпили, дружески и торжественно беседующие с великими силами космоса.