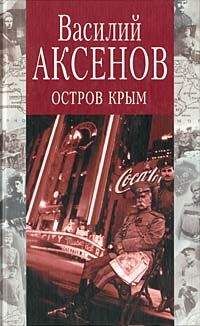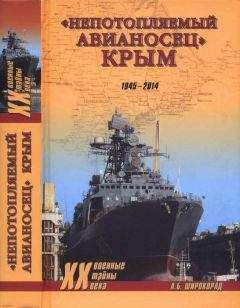Поль Моран - Парфэт де Салиньи. Левис и Ирэн. Живой Будда. Нежности кладь
Левис присел на чемоданы. Огляделся. На стене — литография, изображающая римского императора Оттона, и большая, уже почерневшая картина в романтическом стиле, которая воспроизводила эпизод резни в Сули: гречанки бросали своих детей в пропасть, лишь бы они не попали в руки к туркам. Левис присмотрелся к мебели — кровать, стул, треснутая икона, графин, на электроплитке блюдо с орехами, застывшими в сгущенном виноградном соке. Он опустил взгляд на свои ботинки, покрытые пылью, и вдруг на него навалилась усталость целой недели, проведенной в пути. Париж показался ему далеким, чистым, умытым. Он еще раз наказан за свою страсть к путешествиям. Скачок в дикие романтические времена, необжитость этого дома сразили его. Он почти сразу заснул.
Проснувшись, он почувствовал себя отдохнувшим, то есть примирившимся; надвигалась ночь. Ирэн была совсем близко на террасе, прямо у его окна. Глаза ее устремлены к вершине холма, где поднимались фиолетовые стены лепрозория.
— Ирэн, о чем вы думаете?
Она вздрогнула, поднялась, подойдя к нему, опустилась на колени.
— Когда я смотрю на гладкое — без повышения и понижения — море (так деловая женщина хотела сказать «без приливов и отливов»), мне кажется, я совсем спокойна, как оно. Я так счастлива, что иногда спрашиваю себя, не пора ли мне уйти из жизни. Мудрость ведь состоит в том, чтобы продавать вовремя, с выгодой.
К вечеру цикады устроили адское стрекотанье. С гор спускался, наплывая волнами, то древний запах козлиных шкур, то аромат мяты, столь горячий и резкий, будто ты всю ночь охапками прижимал ее к своей груди.
IVУже шесть недель Левис жил на этом острове, где только Ирэн источала свежесть. По утрам он ставил парус и отправлялся на рыбную ловлю вслед за Чайльд Гарольдом.
Отдаваясь лучам солнца, как любая букашка…
По возвращении Левиса Ирэн ждала его у причала, вокруг нее роились дети с выбритыми до синевы головами; нищие, сохранившие следы былого величия, — их потемневшая блестящая кожа сморщилась, как на сухой маслине. Она побывала у беженцев из Малой Азии: лазарет, а рядом с лазаретом палатки, удерживаемые у земли большими камнями наперекор «птичьим» ветрам — упорным ветрам, которые приносили с юга жару и птиц. Беженцы стояли здесь уже несколько месяцев; женщины, все в широких шароварах, пряли, а мужчины, присев на корточки, поджаривали на деревянных вертелах барашка.
Левис и Ирэн тоже питались, как дикари. Выловленную рыбу — дораду — варили, добавив немного масла. Легкие приправы. Фрукты. Вода. Левис уже скучал по дичи, гусиной печенке и предпочел бы распрощаться с маленьким столиком и сесть за большой. Ирэн, извиняясь, повторяла греческую пословицу: «На одно су маслин, на два — света».
В полуденные часы безделья, когда по вздрагивающей пустынной улице несутся, сталкиваясь, ветры с суши и моря, в эту солнечную полночь Левис наслаждался сиестой. В пять часов он выходил на балкон. Прямо перед глазами была таможня со своим, уменьшенным, Парфеноном, вжатым в охряного цвета стену здания казарменного типа, над которым трепетал, словно вырезанный из полотнища неба, эллинский флаг. Под одиноко стоящим эвкалиптом владелец единственного «форда» — и то взятого напрокат — приглашал друзей посидеть на потертых кожаных сиденьях: так они совершали, не трогаясь с места, длительную прогулку. Возвращались с лугов тяжело нагруженные ослы: из-под двух вязанок оливковых веток были видны только уши да копыта. Над зданием лепрозория всходила плоская, с голубыми разводами луна.
«Как могли греки жить на этих скалистых островах? Неужели ради таких вот невежественных, угрюмых рыбаков, ради этой страны, похожей на сместившуюся к югу Ирландию, Европа эпохи романтизма пролила столько крови и чернил?» — задавался Левис вопросом.
Дважды в неделю он спускался в кафе, читал там «Афинскую газету», выходящую на французском языке. Здесь он видел чиновников в белых костюмах и черных очках, отрастивших себе длиннющие ногти из презрения к черной работе; сторожа с маяка, который охотно давал всем свою подзорную трубу, помогавшую ему разглядывать морские горизонты; продавца арбузов; попа с зонтиком из парусины, с огромной, закрывающей даже глаза, бородой, напомаженными волосами — о нем говорили, что он не столько обращал людей в свою веру, сколько драхмы — в доллары. Пили черный кофе из маленьких металлических чашечек, обжигающих пальцы, разбавляя его такой чистой водой, что поп, вознеся благодарность небесам, осенял стакан крестным знамением.
На Востоке только греки, кажется, нашли какое-то равновесие между беспечностью и фанатизмом. Левису это не удавалось. Украдкой от Ирэн, глядя на это море с торчащими маленькими парусами, Левис предавался полной, всепоглощающей скуке. Он поддался средиземноморской анемии, избрав состояние вялости и позволяя себе жить в оцепенении, напоминающем комфортабельное умирание. Временами ему и впрямь казалось, что он уже мертв.
Однажды утром Левис заметил на площади какое-то оживление. Двое мужчин, взобравшись на стулья, поднимали над головой черные пальцы. Собравшиеся вопили и тянули руки, стараясь привлечь их внимание.
Левису сказали, что дело в страховых премиях, что таким образом разыгрывается — прямо на корню — первый урожай винограда, который называют коринфским. Он вступил тоже в игру. Это ему что-то напомнило… Словно в ореоле рождественской сказки, вдруг возник перед его глазами другой храм, тоже полный божественных загадок. Сейчас половина первого: на расстоянии двух с половиной тысяч километров отсюда открылись двери парижской Биржи. Уже шла тайная котировка курса валют. Группы комиссионеров, от волнения застывшие в неподвижности, подобно стоящим рядом квадратным колоннам, испещренным карандашными пометками, цифрами, карикатурами, томились в ожидании. За дубовыми перегородками кабинок, за зелеными шторами представители банков принимали по телефону последние распоряжения. Но вот раздается звонок и безумному шуму больше нет удержу… Движение идет в двух направлениях, и, достигнув цели, распоряжения растворяются, поглощенные, втянутые эквивалентом другой валюты, а тем временем на зеленоватом стекле у самого потолка появляются наконец долгожданные цифры. Как прекрасны эти игрушки!
Левис, охваченный меланхолической грустью, скучал по Западу, по его островерхим крышам, по полноводным рекам, по твердому сливочному маслу, по бескрайним плодородным полям, по молоку, которое ничем не пахнет, по дворникам, по Булонскому лесу, где прогуливаются дамы, затянутые в корсеты, по Марсьялю, по своей, такой чистой, квартире, по Элси Маниак и прочим своим подружкам — и холодным, и пламенным, — даже по князю де Вальдеку, вспомнив его галстук, повязанный бантом, и его хромоту. («Он похож на подбитую куропатку», — говорил Пруст.) Средиземноморье показалось ему отвратительным — и ярость вулканов, и родившиеся в конвульсиях горы, и тощие земли, населенные людьми себе на уме, и эти луга, голые, как железнодорожная насыпь, и эти резкие цвета под бесстыжим солнцем, и монотонное журчание ручьев — словно из классического репертуара.
Как много отдал бы он за возможность увидеть зеленый газон!
Он вдруг понял, какая романтическая ностальгия мучила Софью, королеву Греции, когда она попросила у своего мужа Константина разрешения посадить плющ у стен Акрополя.
Но Ирэн уже направлялась к нему и раньше, чем оказалась рядом, с тревогой спросила:
— Вы чем-то подавлены? Вы выглядите несчастным.
Вопрос этот был столь простодушен и неловок, что Левис ответил лишь усталым пожатием плеч, не поднимая глаз:
— Напротив, я счастлив.
— Я спрашиваю серьезно.
— Дело в том… Если вы меня любите, мы должны вернуться в Париж, хотя бы на неделю. Я чувствую, что схожу с ума, не видя ни облачка. Вы меня понимаете?
VОни вернулись. Была середина лета. Париж напоминал Грецию: возле церкви Мадлен толпились американцы, Елисейские Поля были пустынны, выжжены дотла, по ним, словно козы, бродили подъемные краны[26]. Не хватало воды. Итак, победа в споре осталась за Греком.
Левис и Ирэн жили на восточный манер, за плотно закрытыми ставнями. И все-таки это был не остров, и на пустынных улицах оставалось что-то от горячительной, заразительной приветливости предыдущих месяцев, а когда исчезли туристские автобусы, воздух опять наполнился драгоценными ароматами — резкими, фривольными, которые останутся в Париже навсегда, даже если французы покинут его.
Они ни с кем не встречались. Ирэн тяготилась людьми и не любила все эти разговоры. «В Париже, — объясняла она, — от вас всегда словно ждут сюрприза. А мне нечего предложить. Мне нужны только вы, Левис. Когда мы с вами вдвоем, мне хорошо. Я люблю народ, детей, животных; но здесь дети болезненные, с животными плохо обращаются, а рабочие превратились в жадных мещан».