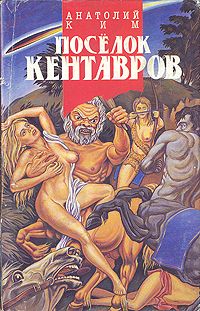Ульяна Гамаюн - Ключ к полям
– А я два года делала то, что мне самой природой противопоказано. Этакое, знаешь, медленное щадящее самоубийство. Словно земля под тобой обвалилась, а ты, ухватившись за скользкую траву, висишь над пропастью, с каждой минутой все увереннее и безнадежнее обвисая. Что-то вроде затянувшегося сердечного приступа. Или его преддверия.
– О чем же ты думала? Ты ведь проучилась пять лет...
– А я не думала, никогда не думала. Я плыла по течению. Кстати, не я одна. К тому же, учиться мне нравилось, даже очень.
– Допустим, но почему же ты не бросила все к чертям собачьим, когда поняла, что ошиблась?
– Я бросила. Бросаю каждые два-три месяца.
– Вид у тебя при этом не очень счастливый.
– Да. Я только недавно поняла собственную глупость. Меняя шило на мыло, многого не добьешься.
– То есть?
– То есть – это было ложное движение: я бежала, чтобы остаться на том же месте. А нужно бежать вдвое быстрее. Я не должна работать программером. Не должна вообще соприкасаться с айтишной сферой, потому что это губительно: во-первых, для меня, во-вторых, для ай-ти, в-третьих – для мира во всем мире.
– Всем бы такое чувство ответственности перед миром.
– Меня не волнуют все. Мировую революцию в сознаниях человеков разумных я тоже совершать не намерена. Я эгоистка, лишенная какого бы то ни было честолюбия. Вам нравятся деньги и работа ради денег? Пожалуйста. А мне нет. На том и разбежимся.
– Думаешь, это так просто, вырвать сердце из клейкой стихийности мира? Клейкая стихийность хороша в песнях и байках, когда солнце повисло над пасекой и райские яблочки наливаются над головой. Посмотрю я, что ты скажешь об этой стихийности зимой, может, она тебе не покажется такой уж клейкой. И вообще, думаешь, человеки разумные вот так запросто тебя и отпустят?
– Уверена в этом. Для каждого на этой пасеке есть свой план «Б».
– Плана «Б» никогда не существовало. Как и пасеки, – хмыкнул я, надавливая на бублик. – Все, о чем ты говоришь, – сказка, красивая и поучительная сказка. Человечество преспокойно обходится без плана «Б»: работает пять, а кто и семь дней в неделю, исправно ходит на митинг в пятнадцать ноль-ноль и на английский – в семнадцать двадцать пять, хлещет кофе, расшаркивается перед начальством, строчит бесконечные письма клиентам...
– Ага, а у клиентов тоже клиенты, и письма, и митинги в пятнадцать ноль-ноль. Нам некогда, мы трудимся, мы пыхтим, мы из одежды выпадаем – все ради великой цели, на благо человечества. Прелестно! Только в итоге это самое благо проходит незамеченным, потому что всем нам некогда, все мы трудимся и пыхтим, и так без конца.
– Се ля ви.
– Се ля чудовищный механизм. Не механизм даже, а что-то живое, хитрое и извращенное. Как ловко оно на тебя давит, как нащупывает твои страхи, как играет на тщеславии, алчности, трусости, как, подняв всю эту гниль со дна, пестует ее и поощряет! Почти как телевидение – тот же оболванивающий эффект.
– Ну, телевидение о такой власти над простецами может только мечтать. Что же касается всего остального, то повторяю – все так живут.
– И только пони все ходит и ходит по кругу...
– Да. Смирись, пони, не то погибнешь.
– Посмотрим. – Она помолчала. – Твои вполне серенькие и вполне хорошие, «обыкновенные» специалисты меня не убедили. Зачем мне оставаться там, где я буду серостью, делать то, что делать не люблю? В чем смысл? К чему мне такая жизнь? Да, я совершила ошибку, и теперь, значит, должна за нее всю жизнь расплачиваться? Дудки!
– Ну и в чем же, по-твоему, смысл?
– Ничего нового я тебе не скажу: человек должен быть счастлив, остальное – бессмыслица и за уши притянутая туфта. Твоя пресловутая «обыкновенность», этот долг кого-то перед кем-то влачить жалкое существование, выдуман людьми. Мне всегда было стыдно за свою «обыкновенность», казалось, я кого-то обманываю, наживаюсь на чьей-то доверчивости. Все, что я делала, было ложью. Когда лгать становилось совсем невмоготу, я сматывала удочки, чтобы снова лгать в другом месте и снова бежать... В сущности, я была кровопийцей.
– Не представляю тебя паразитирующей на теле наших доверчивых софтверных компаний. Скорее уж наоборот. К тому же, ты так отважно с ними расстаешься...
– Да нет здесь никакой отваги. Мне абсолютно фиолетово, уволят меня или будут петь дифирамбы. Ни счастливой, ни несчастной это меня не сделает. Просто единственное, что для меня имеет значение, лежит совершенно в другой сфере, им недоступной. Мне, кстати, стало намного легче, когда я этот факт осознала.
– И что же в этом факте такого утешительного?
– Ну как ты не понимаешь! Никто надо мной не властен, никто до меня не дотянется, никогда, ни при каких обстоятельствах. Понимаешь, о чем я? Абсолютная свобода! Что бы они ни делали, какие бы пытки ни изобретали, у меня всегда остается моя свобода. Я всегда могу встать и уйти, в любой момент. Об этом много говорится, но, по-моему, очень немногие на самом деле понимают, о чем речь. Изменить жизнь проще простого.
– Просто встать и уйти.
– Да, просто встать и уйти. А кроме всего прочего, это очень сильное преимущество перед человеками разумными. Я, видишь ли, очень невыгодный сотрудник. Меня абсолютно не интересует их постылая зарплата и их постылое продвижение по службе. Увольнение – самое страшное, что они могут себе вообразить, одновременно и самое для меня желаемое событие.
– Да ты просто монстр!
– Вот и я о том же. – Нога перестала раскачиваться, поджидая напарницу. Та не заставила себя долго ждать, и Жужа спрыгнула с подоконника, теребя в руках свое лекарство от всех бед – неизменную, нелепую муху в янтаре.
– Нет, ты больше похожа на колибри, промышляющую медом на чужой пасеке, – улыбнулся я.
– Или на корову, которую Молла из «Птички певчей» зимой и летом кормил только грушами, – рассмеялась Жужа.
– Ну нет. Разве что на божью коровку. Которая действительно пахнет грушами.
Тикали часы. Осенний вечер выводил последние рулады.
– Жужа...
– А? – Раскинув руки в стороны, она балансировала на невидимом канате.
– Ты так много говорила о чужих талантах, но до сих пор не сказала о своем.
– Я думала, это и так ясно. У меня дар убегания.
– То есть как?
– А так. Меня несет по свету, как перекати-поле, куда ветер подует, туда и я... Ты разве забыл – ведь я мантикора. В беге мой талант и высшее предназначение.
– Ну вот, опять ты про эту...
– Правда, особой кровожадностью я похвастаться не могу...
– Ты не мантикора.
– Я мантикора, я собираюсь бежать и съем всякого, кто будет меня останавливать.
– Нет.
– Да.
– Этого быть не может. И... как же твоя книга?
– Книга? Откуда ты знаешь про книгу?
И я рассказал ей о наших с Женькой происках.
– Надо же. Какие шпионские страсти из-за клочка глупой бумаги. И Женечка твой хорош, засланный казачок! И почему тебя так интересует моя книга? Из-за того, о ком она?
– Нет, нет, конечно нет.
– Я читала твой роман. Я пишу по-другому и, можно сказать, о другом. И, разумеется, намного хуже.
– Да нет. Меня это абсолютно не волнует. Наоборот, я хотел бы помочь. Ты много громоздишь и делаешь порой смешные ляпы, но это лечится...
– По-моему это национальная черта – громоздить. Такая, знаешь, сугубо украинская страсть к эпитетам.
– Это не национальная черта, это продукт невротического состояния. Впрочем, невротическое состояние – тоже национальная черта.
– А я продукт этого продукта. Да и какая теперь разница. Мне все равно. Я эту книгу дописала. С ней покончено. Я смотреть на нее больше не могу. Она ужасна.
– Погоди. Дописала? Ты показывала ее кому-нибудь?
– Только Бипу. Это ведь просто так, забава для графоманов. Бип тоже так считает. Никто не издает такие бредни.
– Вовсе не бредни. Да, неумелые и слегка аляповатые, но попробовать стоит. Хочешь, я тебе помогу?
– А сам ты больше не пишешь?
– Нет, не пишу.
– Почему?
– По принципу сродной деятельности. В мире высокой литературы я оказался лишним.
Посмотрела на меня с сомнением:
– Не пойму, зачем тебе все это. На доброго самаритянина ты похож меньше всего.
– Спасибо на добром слове. Но я действительно хочу помочь.
– Это бессмысленно. К тому же, я уезжаю.
– Уезжаешь? Куда? – вскинулся я.
– Еще не знаю, но как можно дальше отсюда. У меня очень болит голова.
– Голова?
– Ну да. У меня адские головные боли.
– И давно?
– Мне иногда кажется – всю жизнь. Когда у меня вот так раскалывается голова, я ни на что не годна. У меня все из рук валится, я не могу ни есть, ни спать, ни думать, ни смотреть на небо, ни стоять на месте, ни сидеть, даже идти не могу – только бежать, не разбирая дороги, не останавливаясь...
– И куда же ты побежишь на этот раз?
– К морю.
– С ума с тобой сойти можно! Ну что ты там будешь делать, у моря?
– Научусь рисовать. Я давно мечтала... Потом, может, устроюсь посудомойкой, ну, или прачкой, или что там у них еще бывает, на какое-нибудь суденышко. Хочу поплавать по морям-океанам. Ну и, конечно, буду писать.