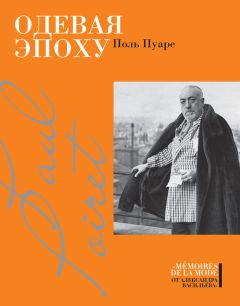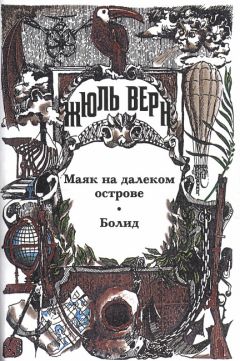Новый Мир Новый Мир - Новый Мир ( № 4 2010)
Упрямство Толстого в отстаивании своего религиозного пути, его отрицание церкви нередко приводили к спорам между братом и сестрой, но эти споры никогда не приводили даже к возможности разрыва отношений. Они всегда заканчивались... шуткой. Оба ценили остроумие. Однажды, посетив сестру в Шамордине, Толстой пошутил: «Вас тут семьсот дур монахинь, ничего не делающих». Это была злая, очень нехорошая шутка. Шамординский монастырь был действительно переполнен, причем девицами и женщинами из самых бедных, неразвитых слоев, ибо устроитель монастыря Амвросий перед кончиной приказал принимать в него всех желающих. В ответ на эту злую шутку Мария Николаевна вскоре прислала в Ясную собственноручно вышитую подушечку с надписью: «Одна из семисот Ш-х дур». Толстой не только оценил этот ответ, но и устыдился своих сгоряча сказанных слов.
Подушечка эта и сегодня лежит на кресле в кабинете Толстого в музее-усадьбе «Ясная Поляна».
Мария Николаевна была не вполне обычной монахиней. По крайней мере, она сильно выделялась на общем фоне. Перед смертью, уже приняв схиму, она бредила по-французски. Ей, привыкшей жить по своей воле, было трудно смиряться, всегда спрашивать разрешение духовника или игуменьи. Она скучала по общению с близкими по образованию людьми, читала газеты и современные книги. «У нее в келье, — вспоминала ее дочь Е. В. Оболенская, — в каждой комнате перед образами и в спальне перед киотом горели лампадки, она это очень любила; но в церкви она не ставила свечей, как это делали другие, не прикладывалась к образам, не служила молебнов, а молилась просто и тихо на своем месте, где у нее стоял стул и был постелен коврик. Первое время на это покашивались, а иные и осуждали ее, но потом привыкли».
«Я как-то раз приехала к матери с моей дочерью Наташей, которая страдала малярией. Мать приставила к ней молодую, очень милую монашенку, которая ходила с ней всюду гулять; но когда та хотела повести ее на святой колодезь, уверяя, что стоит ей облиться водой, как лихорадка сейчас же пройдет, мать сказала:
— Ну, Наташа, вода хоть и святая, а всё лучше не обливаться.
Монашенка была страшно скандализирована этими словами».
Раз в год, на два летних месяца, она приезжала гостить к брату в Ясную Поляну. Выхлопотать разрешение на это было непросто, пришлось обратиться к калужскому архиерею. Последний раз она была в Ясной летом 1909 года и, по свидетельству дочери, уезжая, горько плакала, говоря, что больше не увидит брата.
Тем не менее его внезапный приезд поздней осенью был для нее не совсем неожиданным. Уже в последний свой визит в Ясную она увидела, что в семье брата назрел неразрешимый конфликт, и была в этом конфликте все-таки на его стороне.
Встреча их в доме Марии Николаевны в Шамордине была очень трогательной. Приехав с Маковицким и Сергеенко 29 октября уже поздно вечером, Толстой даже не заглянул в номер гостиницы, где они остановились. Он немедленно отправился к сестре. Эта его стремительность после рассеянного блуждания возле скитов Оптиной говорит о многом. Толстой рвался к сестре излить свою душу, поплакаться, услышать слова поддержки. Возможно, даже оправдания своего ухода из семьи.
Это был очень тонкий момент. Как монахиня, сестра должна была, разумеется, упрекнуть брата за то, что он отказался нести свой крест до конца. Сама Мария Николаевна осуждала себя за то, что в свое время из гордости разошлась с Валерианом и тем самым обрекла себя на дальнейшую цепь грехопадений. Однако она ни одним словом не выразила несогласия с поступком брата и целиком поддержала его.
В келье Марии Николаевны в то время были ее дочь Елизавета Валериановна Оболенская и сестра игуменьи. Они стали свидетелями необыкновенной, мелодраматической сцены, когда великий Толстой, рыдая попеременно на плечах сестры и племянницы, рассказывал им, что происходило в Ясной Поляне в последнее время... Как жена следила за каждым его шагом, как он прятал в голенище сапога свой тайный дневник и как наутро обнаруживал, что тот пропал. Он рассказал о тайном завещании, о том, как С. А. прокрадывалась по ночам в его кабинет и рылась в бумагах, а если замечала, что он в соседней комнате не спит, входила к нему и делала вид, что пришла узнать о его здоровье. Он с ужасом поведал о том, что ему рассказал в Оптиной Сергеенко: как С. А. пыталась покончить с собой, утопившись
в пруду. «Какой ужас: в воду...»
Племяннице Толстой показался «жалким и стареньким». «Был повязан своим коричневым башлыком, из-под которого как-то жалко торчала седенькая бородка. Монахиня, провожавшая его от гостиницы, говорила нам потом, что он пошатывался, когда шел к нам».
Жалкий вид отца отметила и приехавшая на следующий день в Шамордино дочь Саша. «Мне кажется, что папа уже жалеет, что уехал», — сказала она своей двоюродной сестре Лизе Оболенской.
В гостинице Л. Н. был вял, сонлив, рассеян. Впервые назвал Маковицкого Душаном Ивановичем (вместо Душан Петрович), «чего никогда не случалось». Глядя на него и пощупав пульс, врач сделал вывод, что состояние напоминает то, какое бывало перед припадками.
И снова Толстой постоянно плутает. На следующий день, уходя от сестры после второго визита к ней, он заблудился в коридоре и никак не мог найти входную дверь. Перед этим сестра рассказала ему, что по ночам к ней приходит какой-то «враг», бродит по коридору, ощупывает стены, ищет дверь. «Я тоже запутался, как враг», — мрачно пошутил Толстой во время следующей встречи с сестрой, имея в виду собственные блуждания в коридоре. Впоследствии Мария Николаевна очень страдала от того, что это были последние слова брата, сказанные ей.
После второго визита 30 октября Толстой вернулся в гостиницу и узнал, что приехала Саша и пошла к тете, думая застать там отца. Они разминулись, потому что Маковицкий повел Толстого более коротким путем. Толстой немедленно повернул назад, но Маковицкий, чуя неладное, отправился за ним, следуя в ста шагах. «И действительно, Л. Н. пропустил дом Марии Николаевны, направился дальше влево. Я догнал его и вернул и тогда уже вместе с ним вошел к Марии Николаевне».
Кажется, все говорило о том, что Толстой находится на последнем докате, на последнем пределе душевных и физических сил. Дальше ехать нельзя. Ехать дальше — самоубийство!
Но, как и в Оптиной, на всех находит какое-то оцепенение. Как в Оптиной не было ни одного человека, который бы взял и отвел Толстого к старцам, так и в Шамордине все в принципе понимают, что ехать дальше смертельно опасно и что Шамордино — это последняя гавань здравого смысла. Но не только ничего не предпринимают, чтобы остановить Л. Н., а фактически подталкивают его к дальнейшему бегству. Хотя здесь живет его любимая сестра. Здесь Толстого любят все. Не раз бывая в Шамордине, он успел вызвать к себе симпатию самых простых насельниц монастыря. Здесь есть гостиница. По соседству — деревня, в которой Л. Н. утром 30 октября подыскал себе домик у вдовы Алены Хомкиной, с чистой и теплой горницей и дощатыми полами, за пять рублей в месяц.
Толстой по-прежнему жадно любопытен. Он хочет изучить состояние монастыря, осмотреть мастерские и типографию. В его дневнике замыслы четырех произведений, которые он записал еще в Оптиной: «1) Феодорит и издохшая лошадь; 2) Священник, обращенный обращаемым; 3) Роман Страхова. Грушенька-экономка; 4) Охота; дуэль и лобовые». Обнаружив в домашнем собрании сестры книжки из «Религиозно-философской библиотеки» М. А. Новоселова, он в гостинице с интересом их изучает, особенно статью Герцена о социализме, вспоминая, что оставил в Ясной свою незаконченную статью на ту же тему. Диктует дружеское письмо Новоселову и мечтает о продолжении собственной статьи.
В Толстом было еще достаточно сил для мысли и творчества, но уже совершенно не оставалось сил для безудержного перемещения в пространстве, в которое очень скоро превратился его уход. Когда Саша с Феокритовой приехали к отцу, он почти решил остаться в Шамордине.
В противном случае он не стал бы договариваться об аренде дома в деревне, таким образом обманывая бедную вдову, нуждавшуюся в деньгах. Правда, вдова оказалась не очень-то расторопной: вечером того же дня не пришла в гостиницу для окончательного договора. Но Толстого, как пишет Маковицкий, устраивала и гостиница — по рублю в сутки.
Приезд дочери переломил его настроение. Саша была еще слишком молода и решительно настроена против матери и братьев. К тому же она была возбуждена путешествием в Шамордино, окружным путем через Калугу. Зачем? А чтобы запутать след для матери.
Как все упрямые люди, Толстой был крайне переменчив в настроениях и подвержен влияниям извне. Изменить его точку зрения на мир было почти невозможно, для этого ему требовались годы и годы душевной работы, колоссального накопления положительного и отрицательного душевного опыта. Но переменить его настроение не составляло труда. Особенно в тот момент, когда он был страшно неуверен в правильности своего поступка и даже прямо написал Саше, что «боится» того, что сделал. В этот момент Толстой был подобен царю Салтану, которого мог смутить известиями всякий гонец.