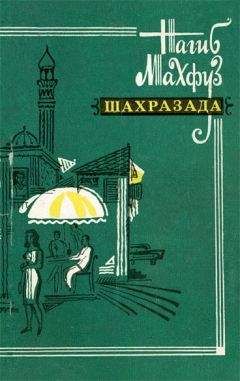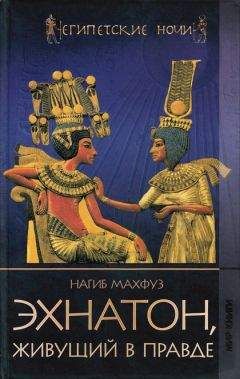Нагиб Махфуз - Зеркала
— Не уважай студента, — часто говорил он мне, — если он не интересуется политикой, не уважай интересующегося политикой, если он не вафдист, и не уважай вафдиста, если он не беден.
— Но ведь Саад Заглул не был бедняком, — возразил я.
— А вот Мустафа Наххас, наш лидер, он из бедных!
— Так ты считаешь, что Мустафа Наххас лучше Саада Заглула?
— Саад Заглул был гениален, а Мустафа Наххас — бескорыстен.
Уйдя из университета, он долго не мог найти работу. Получить должность без протекции было трудно. Однако одному из членов «Вафда» все же удалось устроить его в редакцию какой-то газеты переводчиком на мизерную зарплату. Около десяти лет мы с ним не встречались и вот случайно свиделись как-то в кафе «Аль-Фишауи». И были страшно рады этой случайности, посчитав ее счастливой. На мой вопрос, как идут дела, Аглаи сказал:
— Я по-прежнему переводчик, и зарплата у меня все такая же мизерная. — Он засмеялся — настроение у него было отличное — и добавил: — А ведь я женат…
— Ах ты авантюрист!
— Ничего не поделаешь! Любовь, будь она трижды неладна!
Он пригласил меня к себе в Хан аль-Халили и познакомил с женой. Это была красивая молодая женщина, получившая кое-какое образование. Я понял, что она его очень любит и во имя любви готова стойко переносить все трудности. Разговор вскоре зашел о войне и о политике.
— Я больше не вафдист, каким был… раньше, — сказал Аглан. — В ответ на мое недоумение, он откровенно признался, что он «коммунист», и стал доказывать, что коммунизм — это решение всех мировых проблем. И со смехом добавил: — И моей проблемы тоже.
На что его жена, тоже смеясь, откликнулась:
— И это самое главное!
Аглан продолжал разъяснять мне, что коммунизм — это научная теория, но я понял, что для него коммунизм нечто вроде религиозной доктрины. В конце войны, в период реакционного режима в стране после отставки вафдистского правительства, его по указанию министерства внутренних дел уволили из редакции. Он оказался в весьма трудном положении. Аглану грозило выселение за неуплату даже за ту скромную квартиру, в которой он жил. Время от времени я заходил к нему и помогал чем мог. Однако постепенно на моих глазах в его доме происходили странные перемены. Его квартира стала своего рода пристанищем для нажившихся на войне дельцов. Теперь жена Аглана вела себя в нем как хозяйка салона. Бывало, курили там и гашиш. Избегая неловкости, я предпочел встречаться с ним только в кафе. Аглан, однако, вовсе не чувствовал никакого стеснения и высказывался обо всем с циничной откровенностью. Как ни странно, это никак не отражалось на его политических взглядах, они оставались прежними. Их не коснулось разложение, затронувшее самого Аглана, они сохранились, как жемчужина в помойной яме. В 1950 году Аглан вернулся на свою работу в ту же редакцию, но образа жизни не изменил, с одной стороны, из-за ничтожной зарплаты, а с другой — из-за того, что утратил твердую почву под ногами. После долгого перерыва я увидел его жену и пришел в ужас: разряжена она была в пух и прах и вела себя, как профессиональная проститутка. Видно, я не сумел скрыть свои чувства, они отразились у меня на лице, потому что Аглан сказал:
— Как бы то ни было, не считай нас кончеными людьми. Мы еще себя покажем!
После революции 1952 года друзьям Аглана удалось подыскать ему работу получше. Дела его поправились настолько, что он смог сменить квартиру, переехав в многоэтажный дом на площади Гизы. Этот переезд как бы символизировал начало новой жизни — решение Аглана стать порядочным человеком. Но вскоре за политическую деятельность он был арестован и несколько лет провел в тюрьме. Его жена вынуждена была прибегнуть к «покровительству» какого-то клиента, посещавшего их еще в прежнем доме. Из тюрьмы Аглан вышел усталым, надломленным. Вернулся на работу, зарабатывал неплохо, но спасти жену от падения ему уже было не по силам — она стала наркоманкой.
Грустно качая головой, он говорил:
— Я люблю ее и всегда буду любить, но сама она утратила всякую способность что-либо чувствовать. — И тут же с гневом продолжал: — Я обличаю порок всюду, где его вижу, и меня не страшит, что кто-то скажет обо мне дурно.
Жену Аглан боготворил и был ей бесконечно предан. Все ее желания и прихоти исполнял, никогда не требовал у нее отчета в поведении. Состарился он раньше времени, и из всех радостей жизни ему оставались работа, беседы с друзьями да безграничная снисходительность к жене. Однако именно в этот период, несмотря на все неприятности и неурядицы, Аглан достиг вершины своей интеллектуальной зрелости и написал лучшие, наиболее глубокие и яркие статьи на политические и социальные темы. Его книгу о развитии арабской прогрессивной мысли я считаю одной из самых интересных в наши дни работ. Ее отличает сила убеждений автора и его вера в будущее. Что же касается его простонародного происхождения, противоречий личной жизни, несоответствия между его слабостями как человека и остротой и ясностью ума, то все это представляется мне характерным для нашего беспокойного века, объединившего в себе разрушение и созидание, разобщенность и сплочение, отчаяние и надежду. Меня сильно огорчило, что я не встретил со стороны моего учителя доктора Махера Абд аль-Керима желания принимать Аглана Сабита в своем салоне. С неизменным спокойствием он сказал мне:
— Говорят, это личность весьма…
И сопроводил свои слова улыбкой, избавлявшей его от необходимости давать характеристику, не соответствующую его изысканному вкусу. Позднее я узнал, что доктору Махеру насплетничал об Аглане Гадд Абуль Аля — тот человек, которого на самом деле как бы нет!
Адли Баракят
В моей памяти его образ навсегда связан со старой Аббасией, с ее бескрайними полями и извечным покоем, с той порой, когда он в экипаже приезжал с другого конца квартала в школу. Совсем еще ребенок, он выходил из него с такой величавостью, которая была бы под стать самому наследнику престола. Шествуя мимо, он не удостаивал нас даже взглядом. В школе держался обособленно, обходился без друзей и редко с кем-нибудь общался. Мы провожали его взглядами, в которых за насмешливостью скрывались восхищение и зависть.
Семейство Баракят — так же, как и семейство аль-Кятиб, — принадлежало к аббасийской аристократии, их дворцы высились в восточной части квартала. Мать Адли была турчанкой, отец происходил из семьи богатых египетских землевладельцев. У них было двое сыновей, Адли и его старший брат. Мать умерла, когда Адли было двенадцать лет. Через год после ее смерти отец женился на египтянке. Говорили, что Адли тяжело переживал смерть матери, а сам факт, что место ее заняла другая женщина, на всю жизнь лишил его душевного равновесия. Его переживания можно понять, но дать им объяснение трудно, тем более что Адли никогда ни с кем не говорил о своей матери. Несмотря на то что я сошелся с ним ближе, когда он уже был взрослым, озлобленным и ни к чему не питавшим уважения человеком, между нами была молчаливая договоренность, что его мать — некое священное табу, упоминать о котором даже намеком запрещено.
Подростками мы видели Адли то в школе, то в саду его дворца, но знакомство между нами так и не завязалось. Возвращаясь однажды с пустыря, где мы играли в футбол, мы заметили Адли перед воротами его дома. Проходя мимо, Халиль Заки не удержался от желания его подразнить.
— Знаешь, где лавка папаши Фалькуса, продавца бобов? — вызывающе спросил он.
Адли молча повернулся и пошел в дом, а мы, сдерживая смех над Халилем Заки, продолжали свой путь, в глубине души чувствуя какое-то удовлетворение.
— С каким удовольствием вцепился бы я ему в глотку! — со злобой сказал Халиль.
Мы с Адли поступили в университет одновременно. Он учился вместе с Редой Хаммадой на юридическом. Реда и познакомил меня с ним на футбольном матче между Национальным клубом и сборной.
— Мы выросли в одном квартале, а вот познакомились только сегодня, — сказал я.
Адли улыбнулся и коротко ответил:
— Да.
Внимательно приглядевшись к нему, я отметил, что, несмотря на свою элегантность и врожденную величавость, он как две капли воды похож на своего отца-крестьянина. От матери-турчанки он не унаследовал ни одной черты. С первого взгляда я понял, что Адли — человек трудный и завоевать его доверие и тем более дружбу не так-то просто. Он презирал все и вся. Излюбленным его словечком было «забавный». Им он характеризовал людей и явления независимо от мнения по этому поводу его собеседника. Преподаватель гражданского права — «забавный профессор», Мустафа Наххас — «забавный лидер», решение Саада объявить бойкот — «забавное решение», догмы ислама — «забавные догмы», и все в том же духе.
— Кто же из людей, по-твоему, достоин уважения? — спросил я его как-то.