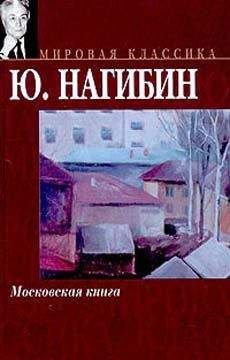Ада Самарка - Дьявольский рай. Почти невинна
– Мне кажется, что с приездом сестры и отъездом ее мужа блокада у тебя несколько рассосалась, – сказал он со знойной улыбкой, с какой говорил обычно разные гадости.
А у меня запахло магнолиями… Боже, как же запахло!
– Помнишь, я предлагала тебе уже однажды встретиться ночью на Мостике. Сегодня мы опять идем в Домик, и это единственное место, где на меня обращают меньше всего внимания. Они напиваются и потом говорят о «магии человеческих отношений» или про «крах семьи Романовых». Мне думается, что мы бы тоже могли с тобой поговорить, но куда более чувственным способом. – Я скромно улыбнулась и, видя, как шанс ускользает со стремительностью папашиной категоричности, беспомощно взяла его за руку. Он думал.
– Я совершенно не ограничена в передвижении. До одиннадцати вечера у меня полная свобода. А от Зинки легко удрать, – продолжила я свой отчаянный монолог.
Альхен, как скала посреди пустыни, был одной сплошной безмолвной нерушимостью. И мне казалось, что я стою в той же пустыне, прячусь под его тенью, льну к спасительной прохладе, а она ускользает, подставляя меня обжигающим лучам такого же бесчувственного солнца. А скала все стоит, и я пытаюсь прислониться к ней, за что получаю глубокий ожог.
– Мостик – это мышеловка, – сказал он задумчиво и весьма сухо. – Дело в том, что на определенные места у меня есть свои запреты. Маяк – это одно из них. Это зона риска, и я должен тебе сказать, что вступать в дерьмо не очень люблю. Моя душа не лежит к тому месту (уже не так сухо). Я всегда слушаю свой внутренний голос. Я уже убедился, что если чувствую что-то нехорошее, то облом мне гарантирован. Большой, маленький, но облом. Мои ноги не несут меня туда, куда не лежит мой путь, – после паузы сказал он с оттенком невыносимой безысходности и, изогнувшись сказочным серпантином, исчез в тумане рассыпавшейся Имраи.
Я спустилась к «эрудитам». Меня прогнали. В тихой своей тоске я сама пошла к Альхену, всем своим изможденным видом показывающему, как он мечтает, чтоб от него отстали.
– Мне плевать, куда твой путь лежит, а куда не лежит, но я точно знаю, где место мне этим вечером, и я буду, так или иначе, на мостике после 9:30. Если хочешь, то…
– Если дойду, – буркнул он и, с досадой вздохнув, встал и ушел куда-то, чтобы не быть рядом со мной.
Я тоже ушла, ощущая во рту какой-то непонятный солоноватый привкус. Ведь слез на щеках я не чувствовала. Значит, это плачет моя душа.
Abend – Конечно… идем сюда.
Я ускользаю от реальности. Я играю с ней в опасные игры.
Мы шли по узкой каменистой тропе к Домику. Тихо шептались миндали и фисташки. Моя Имрая. Впереди процессии шла я – рыжая девушка в белом сарафане, едва прикрывающем загоревшее, обласканное морем и солнцем тело. Ткань была такой легкой, такой приятной, что я ощущала свою наготу куда острее, чем если бы на мне не было сейчас вообще ничего. Мне сказали, чтобы я немедленно оделась, потому что холодно, но я не слушала, глядя куда-то в отзывчивую тишину сумеречной рощи. Там, за перевернутым якорем, за паукообразными воротами, там кроется еще один шанс.
…Между костелов зелени, темно-черно-оливковой, путешествовали мои слезы. Луна была там, на небе, понимающая крах надежд, безоблачно проливая холодный свет на победу реальности. Пустота была естественной, и все чувства отдавали лишь глухой болью. Я стояла по колено в шелковистой траве, влажной остатками минувшего дня. День умер. Если присмотреться внимательно к этим капелькам, то в них можно разглядеть радужное переливание чьего-то сегодняшнего счастья… вечную раздвоенную ухмылку Ай-Петри. Дыхание Имраи.
Гора еще не приобрела свой хокусаевский гладкий силуэт, сумерки не сгладили ее взволнованных краев. Они розовели закатом; эта слабая, персиковая, как теплый сентябрь, полоска была воплощением образа моей надежды. Вот сейчас и она пропадет, превратившись в ветер.
Я развернулась и слепо побежала в эту неподдельную ночь, забирая на своей обнаженной спине холод отчаяния неисправимого факта. Его там не было.
Я расслабилась, являя приветливость и угодливость мрачному отцу, пьющему портвейн, который играл луной в помятом стаканчике из-под йогурта. С видом великого философа он глядел на это сытое светило, слишком подлое, чтобы быть сегодня полным. Я сидела с ними – третья лишняя, и пыталась расшифровать орнамент послания черных веток над обрывом. Хотела проснуться, но грезы не отступали. Обыденность звала, как зовет соблазн забыть о Гепарде в сложной игре с воспоминаниями. Они есть… Но этот демон идет, ходит вокруг слайдов некрымских реминисценций, он пляшет в линзе проектора. Он вытатуирован на внутренней поверхности моих век. Я думаю об Имрае и я думаю о нем, находя каплю моря в каждом его движении, в его бровях, в его лице, в силуэте и негативе его фигуры, захваченной нескончаемыми гиацинтовыми танцами в калейдоскопе этого умственного паразитизма. И я люблю его… я люблю его, как эти звезды. И лишь его глаза, золотистые, непрочитываемые, застланные огнем, не таят в себе ничего имрайского. Может быть, только восход теплым влажным утром. Мое лицо тогда тоже покрывается нежной золотистой сеточкой, и весь мир золотеет перед тем, как дать дорогу алому торжеству еще одного рождения.
Я не могла сидеть вместе с ними. Отец велел идти домой, а я рада была уйти, потому что холод истинный, еще не четко выраженный, притронулся ко мне, и по обнаженному телу бегали мурашки. Своей замечательной одежды я теперь даже не чувствовала. И вся романтика, все тихое, осторожное волшебство этого опустевшего места начинали ускользать от меня, напоследок призывая сбегать посмотреть еще раз. И я бегала. Я бежала прочь от Домика, с каждым новым ударом сердца черпая все больше надежды. Но она рухнула, обдав меня новой болью, и мне ничего не оставалось, кроме как, придя домой, скинуть нелепый сарафан и переодеться во что-то более теплое, соответствующее неромантическому вечеру под звездным небом. Нашла Зинку. Мы стояли на самом краю обрыва, и я отвлекала ее довольно необычной для нас беседой, позволяя себе изредка поглядывать на белое уныние пустоты Капитанского Мостика, фосфоресцирующего под скользящим маячным лучом в этой бессмысленной пустой темноте.
Зинка стянула у своего папаши сигареты и спрятала у якоря, можно сейчас пойти… Когда мы поравнялись с тропинкой к Домику, я попросила ее обождать минутку и, посидев с философствующим отцом, сказала, что это невыносимо, и легко, так невозможно легко, покинула их, встречая Зину горстью поджаренного арахиса.
Покопавшись в траве под каким-то особенным кустом, она, наконец, нашла то, что искала, и мы дружно закурили, переведя целый коробок отсыревших спичек. Я предложила пойти на Мостик, всем сердцем благодаря эту неполную луну за возможность посидеть под ее лучами не в холодном одиночестве. Я не создана для него. Представляю, какими хищными огоньками светятся во тьме алые огоньки наших сигарет.
А дальнейшее было как в сказке:
– …мы поедем к бабушке, у нее там свин, проказник такой. – Она осеклась, когда я с неожиданной силой стиснула ее худенькую ладошку.
Там, чуть поодаль, путаясь в этих сгустившихся шоколадных сумерках, теряясь в невероятном узоре ветвей, являясь центром этой торжествующей метаморфозы, там был ОН. Да, да, эта утонченная прелесть альхенового волшебства – появляться не сразу, а давать мне видеть лишь графический образ в слепящем в сумерках сиянии моего неописуемого счастья. Он, весь он – парой неотрывных линий на пальмовом фоне этой звездой Имраи, черной, лунной, просто пошутившей Имраи…
– Ах, – выдохнула неслепая Зина, – это… это йог ?
Я обняла ее за плечи, пустыми фразами отослала обратно. Я шла к нему, путаясь в высокой траве, шла и, ослепленная этим видением, ориентировалась лишь по картинке, прикипевшей к моему рассудку – вот он, Демон, почти незаметный – лишь слабый очерк гладкой головы, сложенные на груди руки, рюкзак за спиной. Стоит, прислонившись к извивающемуся можжевельнику, противореча всем жизненным правилам, горячий оттиск на сборнике моих снов.
Но где же он?
И вот я стою, беспомощно озираясь, перед белым барьерчиком, отделяющим обрыв и море от моих невротических неисключенностей, совсем одна, и луна как-то укоризненно светит, по-своему желто, намекая на мое печальное слабоумие.
Я начала тихо звать его. Шлепая вьетнамками, побежала по дорожке в сторону пляжей, к шестому корпусу. Везде царила неестественная, сновидческая тишина, и нигде не было ни души, и лишь уныло теплилась тусклая лампочка, вся в мотыльках и мошках, на крыльце тихого здания. Он не мог далеко уйти.
Если он вообще тут был.
Да. Сердце дрогнуло. Стоит теперь под другим можжевельником, все так же расслабленно прислонившись, сказочное очертание из теней и бликов. Я, задыхаясь, бросилась к нему, зажав в зубах сигарету, прижалась к этому сильному теплому телу, почувствовала мягкое скольжение невидимой руки по своему голому загривку.