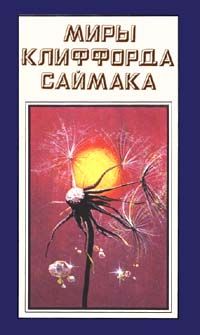Юрий Буйда - Вор, шпион и убийца
Часа через два я добрался до лесного поселка, и после долгих уговоров меня отвезли в город. Я зашел в милицию, рассказал о мертвом шофере, а потом отправился домой.
На следующий день мы гуляли с детьми. Они катались на санках с горки, мы с женой стояли поодаль. К нам подошел начальник милиции (он был нашим соседом) и отозвал меня в сторонку. Помявшись, спросил, не рассказывал ли мне шофер перед смертью о чем-нибудь…
— Да мы даже познакомиться не успели, Виктор Федорович, — ответил я. — А когда он помер, сам понимаешь, было уже не до разговоров.
— Видишь ли… в мешке… ну в том мешке, который лежал у тебя под ногами… мы нашли в мешке три головы… отрезанные головы… две мужские и женская… а кто этот старик и чьи головы — мы пока не знаем…
Значит, в новогоднюю ночь я читал Монтеня, поставив ноги на мешок с головами, рядом с мертвым убийцей, под волчий вой, в обледеневшей кабине, попивая водку и закусывая огурцами с конфетами…
Я посмотрел на жену, на детей, катившихся на санках с горы, вздохнул и решил не рассказывать никому об этом случае. Да и о чем рассказывать, если никакого смысла в этой истории все равно нету. Сюжет есть, а смысла — нет. Бывает.
Начальник милиции — этот самый Виктор Федорович — много лет был секретарем райкома партии по идеологии. Но однажды в Москве решили всех райкомовских мужчин-идеологов заменить женщинами. По всей стране. Про Виктора Федоровича говорили: «Попал под девочек». Его назначили начальником районной милиции. На бюро райкома его напутствовали: «Ты там займись дисциплиной — совсем разболтались милиционеры».
И на следующий же день подчиненные Виктора Федоровича упустили преступника. Его нужно было доставить в Калининград — за сто семьдесят километров. Путь дальний. Преступника заковали в наручники, как полагается, а поскольку дело было зимой, два сопровождающих сержанта взяли с собой водки. Отъехали от города — выпили. Преступник стучал зубами от холода, сержанты его пожалели — дали выпить, чтобы согрелся. И понеслось. Не успели они доехать до Советска, как преступнику и сержантам захотелось отлить. Вышли и упали: выпили-то крепко. Первым встал преступник. Встал и пошел куда глаза глядят. Потом поймал попутку. Потом еще одну, третью, четвертую. Так добрался до дома в Багратионовском районе, на другом конце области. Выпил за здоровье брата, у которого был день рождения, потом родные отвезли его на большую дорогу, и оттуда он попутками же через всю область вернулся в наш город. Явился в милицию и сдался. И только тут с него сняли наручники.
Я смотрел на мир сотнями жадных глаз и слушал жизнь, которая перла в меня со всех сторон — шепотами и криками, всем юродством русской речи, ее диким блеском и темным бессвязным бормотанием. Мне удалось наладить работу редакции, появилось свободное время, и я с удовольствием убивал его на сочинение повести о колхозной деревне. О послевоенной калининградской деревне, когда приехавшие из России и Белоруссии люди не знали, что делать со всеми этими мелиоративными каналами, и сушили зерно на асфальтовых дорогах, и о современной деревне — какой я ее знал. Конечно же, я писал эту повесть в соответствии с главным законом, на котором стояла вся тогдашняя советская жизнь, да и литература тоже: думаю одно — говорю другое. В повести были сотни абсолютно правдивых бытовых деталей, но украшали они абсолютно лживый сюжет о председателе колхоза, который успешно поднимает умирающее хозяйство и решает попутно множество житейских проблем. Среди положительных героев — секретарь райкома партии и редактор районной газеты. Оптимистическая драма.
Дописав повесть, я отправил рукопись в областное книжное издательство и месяца через три-четыре получил положительное заключение с приложением одобрительных отзывов каких-то московских литераторов, которым посылали рукопись, чтобы их столичным авторитетом защитить дебютанта от возможных козней местных писателей (все это я узнал позднее). В заключении содержались просьбы — изменить там и переделать это, так, мелочи. Мне позвонили из издательства, и взволнованная дама сказала: «У вас светлейшее будущее, вы это понимаете? Светлейшее!»
Ну да, это я понимал. Мне было тридцать лет, я был главным редактором партийной газеты в отдаленном сельском районе, членом бюро райкома КПСС, депутатом районного Совета, председателем всяких комиссий и обществ, в том числе общества советско-польской дружбы, о чем узнал случайно, когда из райкома мне на подпись принесли ходатайство о награждении одной доярки орденом Дружбы народов, выделенным району по разнарядке, и оказалось, что ходатайство должен подписать руководитель какого-нибудь общества дружбы с какой-нибудь приличной страной, и этим человеком оказался я.
В общем, я понимал, что публикация книги на актуальную тему не только привлечет внимание к писателю, но и поможет карьере функционера, каковым я и был тогда, конечно. А это означало, что улучшится так называемое материальное положение — в смысле квартиры и зарплаты, которой после рождения второго ребенка, дочери, жуть как не хватало.
Вдобавок у меня уже собралась немалая коллекция отказов. Я посылал свои рукописи в издательства и журналы, месяцами ждал (и не было ничего мучительнее в жизни, чем эти ожидания), получал ответы: «К сожалению, ваши рассказы…» Это было невыносимо. Всякий раз, получая отказ, я думал, что это конец, что больше я не выдержу, и душа моя наполнялась мерзкой тьмой.
И вот все изменилось.
Я был доволен собой. Я упивался собой. Как же я был тогда хорош, умен, талантлив и красив. Высок, светлоок и могуч. Мне, конечно, хватало ума, такта и вкуса, чтобы скрывать нимб под дешевой серой кепкой с наушниками, а крылья — о, эти золотые огромные крылья — я распахивал только по ночам, когда можно было вольно летать над мирно спавшим городком, раскинувшимся на берегу Шешупе, и видеть пылающими своими очами чудеса миров дольнего и горнего, и возвращаться в мягкую постель, в которую только что пописала крошечная дочка, и складывать натруженные крылья, чтобы успокоиться сладким сном. Мир, конечно, ничего не подозревал пока о скором моем явлении — среди молний, под раскаты грома, с благостыней в руке — книгой о колхозной деревне.
В начале лета Лена с детьми уехала к своей матери.
Мне прислали гранки из издательства, и, оставшись один, я сел за стол, чтобы поработать с замечаниями, присланными издательством, устранить то и улучшить это.
Я еще раз перечитал повесть.
Потом еще раз.
Третьего раза не потребовалось — я и без того уже все понял.
Выглянул в окно: закатное небо было черным и багровым.
Не знаю, как на самом деле выглядят врата ада, но они распахнулись предо мной — с тяжким стоном, надсадным скрежетом, с бесовским визгом, выматывающим душу. Огромные створки из ржавого железа, покрытого грубой пупырчатой ржавчиной, потеками засохшего дерьма и крови, какой-то мерзкой зеленью, трещинами и кое-где — седым мхом. Они медленно разошлись, эти жуткие врата, и я увидел среди адского пламени — себя над рукописью, над этими пустыми словами, над этой пустой и лживой жизнью, которую я с таким энтузиазмом запечатлел на бумаге, и я скорчился от невыносимого стыда, такого болезненного, такого всепроникающего, что сполз со стула, лег на пол и замычал, замычал… Мне казалось, что я с ног до головы покрываюсь волдырями, струпьями, какой-то липкой гадостью и превращаюсь в омерзительное животное…
Дождавшись темноты, я сложил в сумку все экземпляры рукописи, гранки, заготовки новой повести, сунул в карман четвертинку водки, пачку сигарет и спустился во двор.
Идти пришлось недалеко: мы жили на окраине городка, ежи из ближайшего леса приходили к нашему крыльцу, и дети кормили их яблоками и капустой.
На лесной опушке я развел костер, присел на корточки, выпил водки, закурил.
Бумага превращалась в пепел.
Мне ничего не было жаль: все те находки, которые встречались в рукописи, хранились в памяти. Все эти детали. Впервые я подумал о том, что в деталях не только дьявол, но и Бог, и вот это-то я и упустил. А Бог — это когда можно, но нельзя, как говорила моя бабушка. Я думал о том, что эта повесть — как ни крути — результат насилия над собой, над воображением. Меня еще в университете раздражали споры о том, что первично — содержание или форма. Об этом, казалось мне, могут спорить только люди, лишенные подлинного таланта, званые, но не избранные, люди вроде Сьюзен Зонтаг, которая ставила своей целью «отстаивание моральных претензий в ущерб эстетике», люди, забывшие о том, что «через искусство возникает то, форма чего находится в душе», как говорил Аристотель. Ответом всем этим людям может служить Первое послание коринфянам — то прекрасное, форма чего находится в душе. А я — я поддался темному очарованию лжи и насилия, и теперь сидел на опушке у костра, думая о том, что отныне у меня не остается ничего, кроме свободы. Я еще не знал, как ею распорядиться, понимая, однако, что свобода вовсе не какая-то самостоятельная, самодостаточная ценность — но лишь средство для достижения цели. А цель бессмысленна вне идеала. Настоящий же писатель, вообще художник, думал я, он как кошка, которую как ни кинь, она всегда опускается на свои четыре: как бы ни относился художник к идеалу, как бы ни противен был ему пафос, обволакивающий это понятие, рано или поздно он упадет на «свои четыре» и окажется один на один с идеалом. Человек знает, чего он хочет, но редко сознает, чего он хочет на самом деле. Отныне, думал я, всякий раз, принимаясь за дело, я должен понимать, действительно ли это дело — мое, мои ли это лиарды. Чтобы кто-нибудь через годы мог сказать: «Настоящее имя этого автора — название его книги». Неважно, был Шекспир или нет, важно, что есть «Гамлет». Настоящее имя Гоголя — «Мертвые души». Nihil. Высшее счастье писателя — перестать после смерти быть человеком, но стать землей, черной землей.