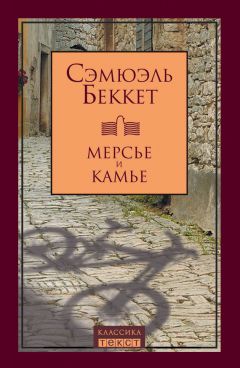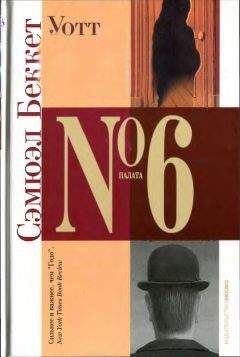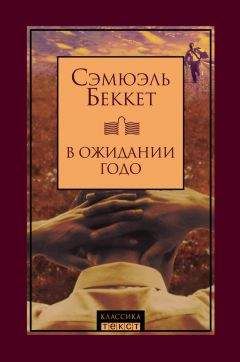Владимир Максимов - Семь дней творения
Усиленно работая локтями, Лашков проложил Груше и Фене дорогу к нужному окошку и занял очередь. Пожалуй, только тут, растворяясь в стонущей колготне, обе женщины в полной мере осознали случившееся с ними. И если вчера, даже не вчера, а всего час назад в них тлела надежда, то сейчас от нее не осталось и следа: слишком маленькой и незначительной увиделась им собственная потеря, чтобы о ней пришло в голову кому-либо печься, кроме них самих. Феня, как-то сразу окончательно погаснув, стала еще тише и бесцветней, а Груша, уйдя в себя, внешне обмякла и присмирела.
Впереди Василия стояла женщина в берете и темном шелковом платье, отороченном по воротнику убористыми кружевами: затерянный остров строгой тишины в горестном море сумятицы. Было что-то от иконы в ее простой и величавой законченности. Она спокойно оглядывала зал большими выпуклыми глазами, но в их, казалось бы, навсегда устоявшейся невозмутимости таилось что-то такое, от чего охотников заговаривать с ней находилось мало.
Только соседка женщины по очереди — испитая пигалица в мужском пиджаке, — бегло стреляя по сторонам оголтелыми глазами, верещала рядом с ней:
— Вот попал, черт шелудивый, а я с тремя живи, — и все колготят: хлеба! И иде я его возьму, хлеба-то? Жилы они из меня все вытянули. А я ведь и не в летах вовсе.
Мелкое, опущенное книзу лицо ее напряглось, жилы на птичьей шее вздулись, и можно было подумать, что их из нее действительно долго и старательно вытягивали.
Женщина в берете сказала вполголоса:
— Зачем вы? Не надо. Им там еще тяжелее.
Но та словно только и ждала ответного слова, чтобы дать волю источавшей ее, как ржа бросовое железо, злости:
— Вам оно, конечно, что! В шелках ходить — не волком выть. Руки вон какие непочатые. А вы в мою шкуру влезьте, не таким голосом запоете. Вашим-то и сидеть не в тяжесть — за свое грызетесь, а мой зачем полез?.. Сладкой жизни захотелось? А она была, да вся вышла…
Соседка коротко, но круто оборвала ее:
— Квартира моя опечатана. Я ночую у знакомых. Так что это платье на мне — единственное… И потом, неужели и в беде вы не можете забыть, у кого чего больше… Тогда лучше и не жить вовсе.
— С капиталом-то…
— У меня нет капитала, — внятно сказала женщина в берете, — я — поэт.
— Чтой-то, — растерянно пошарила по ней глазами баба, — это — как?
— Я слагаю стихи, — объяснила женщина и умолкла, и выпуклые глаза ее тронула усталость. — Извините.
— А! — вроде разочарованно протянула пигалица, но когда смысл сказанного, наконец, дошел до нее, она снова встрепенулась и, неожиданно потемнев, просто, без прежнего раздражения спросила:
— А про это вот можете?
Прежде, чем ответить, женщина медленно провела рукой по лицу, будто снимая с него невидимый никому покров, и лишь после этого тихо и просто ответила:
— Могу.
И столько вдумчивой уверенности было в ее голосе, столько внутреннего проникновения, что она сразу же словно огородила себя от царившей вокруг суеты, и все рядом с ней отрешенно затихли, глядя на нее как бы с другого берега.
Дома Василия ждала записка: «Зайди. Есть разговор. Калинин».
Участковый жил напротив, в старом деревянном доме с подпорками по всей лицевой стороне. Когда Лашков вошел, тот, в галифе и тапочках, расхаживал по комнате, на ходу припадая время от времени к литровой эмалированной кружке.
— Садись. — Он пододвинул гостю стул. — Вот, понимаешь, батя сала собачьего удружил из деревни… Глотаю. Говорят, помогает… Дрянь такая, что не приведи, Господи…
Уже по одному тому, что Калинин, против обыкновения, начал издалека, Василий предполо-жил худое, но, вдруг решившись, бросился, как в омут:
— Ладно, Александр Петрович, что тянуть — выкладывай, не маленькие ведь.
Тот, тяжело крякнув, сел за стол. Отставил кружку в сторону и, с трудом складывая непослушные слова, заговорил:
— Понимаешь, какая штука, Лашков… Как бы это тебе…
— Не тяни душу, Александр Петрович!
— В общем, заходил тут ко мне один, интересовался: кто, мол, да что, мол, ты такое… И в каких, мол, этот самый Лашков отношениях с семьей Горевых… Я ему, конечно, втолковал, что к чему, но, сам понимаешь, с ними не поговоришь много…
— Я сам себе хозяин… Я из-под Чарджоу две огнестрельных вывез. Тебе ли меня не знать, Александр Петрович!
Калинин угрюмо засопел:
— Заруби, Лашков, не таких, как ты, нынче к стенке ставят. Там не спрашивают: сколько у тебя огнестрельных, а сколько осколочных? Там спрашивают: где и когда завербован? И знаешь — как?.. Вот то-то.
Василию вдруг вспомнилась та памятная майская ночь и бритоголовый в штатском, и его усмешливое дружелюбие, от которого холодело сердце, и зябкая жуть свела ему спину. Сглатывая горький комок, подступивший к горлу, он сипло спросил участкового, даже, вернее, не его, а себя:
— А как же она? Она — как?
— Ну, скажи: до выяснения, мол… Совсем возьмут — лучше ей будет? Баба она — дошлая, поймет.
— А, может, пронесет?
Калинин даже сплюнул в сердцах и встал:
— Тогда — пока. Я — тебе не советчик. Только когда пулю будешь у них Христа ради выпрашивать, вспомни этот разговор. Вот что.
Участковый снова заходил по комнате — сухой и взъерошенный, как апрельский дятел, и, хотя был явно раздосадован, не удержался-таки, крикнул дворнику вдогонку:
— Пошевели мозгами, Василий, я тебе не враг!
До позднего вечера просидел Василий на своей койке, стиснув голову руками. «Мамочка моя рoдная! — думал он. — За что это мне все? Разве мало того, что было? Разве не выстрадал я себе каплю радости? Кому я встал поперек дороги?»
И многое вспомнилось ему тогда: и ночные бдения старухи Шоколинист, и храмовская история, и арест Горева, и еще немало другого. И его одолела мучительная мысль о существова-нии некоего Одного, чьей мстительной волей разрушалось всякое подобие покоя. И Лашкову стало невыносимо страшно от собственной беспомощности перед Ним. И тягостное опустошение захлестнуло его. И он мутно забылся…
— Сумерничаешь? — Груша вошла, зажгла свет и сразу заполнила комнату собой, запахом стирки и своим уверенным размахом. — Заболел, что ли? — Она села, полуобняв его. — Ну, чего стряслось?
Он ткнулся головой в ее теплые колени и тонко, по-детски всхлипнул. Она потеребила его волосы:
— Ну что, что, дурачок? С лишнего всегда на слезу тянет. — Последние слова Груша произ-несла без прежней уверенности, словно в предчувствии недоброго. — Пить тебе меньше надо.
Он молвил, как выдохнул после удушья:
— Повременить нам надо… Врозь побыть…
— Зачем? — захлебнулась она. — Как — врозь?
Путаясь и горячась, Лашков передал ей суть своего разговора с участковым. Груша слушала молча, не перебивая. Невидящими глазами всматривалась она в ночь за окном и, казалось, даже не вникала в смысл его речи, но едва он кончил, резко поднялась:
— Так, Лашков, так, Вася, — отчеканила она. — Так. Выходит, о шкуре своей печешься? А я как? — Она невольно повторила вопрос, заданный им Калинину. — Как я? Поматросил и бросил. Наше вам, мол, с кисточкой? Спасибо, Вася, только временить и ждать тебя я не собираюсь… Живи сусликом, а я свою долю найду.
Груша шагнула за порог, Василий было рванулся за ней, но она внезапно обернулась и опалила его взглядом, полным злой горечи:
— Не ходи за мной, Лашков. Теперь хоть брюхом двор вымети, не вернусь. Эх ты, красный герой!
Ему показалось, что захлопнулась не дверь, а что-то в нем. И наглухо. И надолго.
XIЛевушкин ввалился к дворнику, еле держась на ногах, и прямо с порога бросился целоваться:
— Вася, друг! Хоть одна живая душа на весь ящик… Прости меня, родной… Надрались мы тут нынче с Арнольдычем… Симке-то пять лет дали… Вот оно как получается… Не могу я, не могу, вот тут, — он ткнул себя кулаком под сердце, — саднит… Тоска съела… На Волгу меня артель одна зовет… Поеду!.. Тошно, Вася, то-шно… У волков и то, видно, легше… Прости, родной… Пойдем, мы с Арнольдычем тут сообразили литровую…
Мутные, без проблеска глаза плотника, свинцово отяжелев, воспаленно осоловели, всклоко-ченная голова вихлялась, и весь он, как бы лишившись основы, на какую нанизано самое существо, держался расслабленно и вяло.
Василий тягостно вздохнул:
— Зачем ты так, Ваня?
— Тошно, родимый, тошно!
— А все — как?
— Всех и жалко… Шерстью людская душа обрастает… Рази это по Богу? Куда деваться?..
— Вот, на Волгу тебя зовут, валяй. Может, легче станет. А так ведь и до белой горячки недолго.
Левушкин приложил палец к губам:
— Т-с-с, Вася, сам боюсь… Да ведь однова живем! Пошли, Вася, будь другом, за компанию.
— Пошли…
В храмовском чулане стоял дым коромыслом. За столом, уставленным батареей разномастных бутылок и случайной закуской, одиноко восседал Лева Храмов и, подперев ладонью подбородок, пьяно жаловался самому себе: