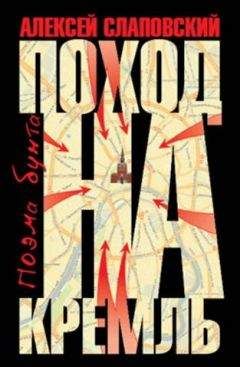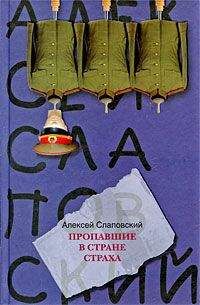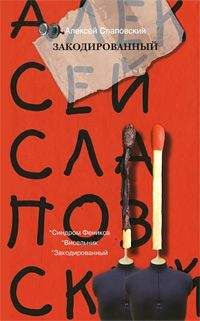Алексей Слаповский - Анкета. Общедоступный песенник
Но тут ты замолкаешь — с недоумением. Ты будто бы только сейчас замечаешь меня — и мою близость. Ты смотришь, хмуря брови, вопросительно. Ничего мне не остается, кроме легкой усмешки. Да нет, ничего смешного, отрицаешь ты движением головы и протягиваешь руку с длинными пальцами — чтобы убрать прядь волос с моих глаз, увидеть глаза и понять, что в них. Только для этого. А я опускаю глаза — и нельзя, невозможно, безбожно не поцеловать пальцы.
С трудом отделился я, помню, от образа Алексины, которым оболокся не с чувством умственного перевоплощения, а чуть ли не настоящего превращения в нее. Не без помощи вина, само собой. Мы выпивали, говорили, но он, заведомо — и неизвестно почему — решив, что половины вещей, внятных ему, я не понимаю, отделывался односложными фразами и, кажется, настроен был больше слушать, чем говорить, что для таких людей, казалось мне до этого, не совсем обычно. Впрочем, возможно, то была его игра этого вечера: быть молчаливым. Ведь не просто приятель, не просто знакомый в гостях у него, а — соперник, хоть и незначительный, друг женщины, которая…
Хватит, хватит!
94. ВРЕМЕНАМИ ВАШИ МЫСЛИ ТЕКЛИ ТАК БЫСТРО, ЧТО ВЫ НЕ УСПЕВАЛИ ИХ ВЫСКАЗЫВАТЬ.
На другой день с утра я ничем не мог заниматься. Думал о Ларисе, представляя, как через несколько дней могу оказаться в небывалой для меня роли мужа (фактически), жить — с кем-то, спать — с кем-то (в прямом смысле спать, то есть, когда рядом другой человек — ворочается во сне, посапывает и даже, быть может, храпит…). Мне это настолько нелепо показалось, что я даже рассмеялся. Надежда заглянула в комнату:
— Ты чего?
— Так… Анекдот вспомнил…
Думал я также и о Тане. Тоже ведь милая женщина — и какая странная болезнь у нее. Дочь почти в отчаянии, не может уехать, не выдав мать замуж. Они надеются на меня. И я бы, возможно, эти надежды оправдал: Тане я нужней, чем Ларисе, Лариса не пропадет. Но я не смогу — по очень простой и по очень сложной причине: у Тани дочь — Нина. Она уедет не навсегда, она будет приезжать. Может даже такое случиться, что ее артистическая карьера не сложится, ее престарелый бой-френд останется в лоне семьи — и Нина вернется насовсем. И как жить тогда в их квартире — постоянно ощущая ее присутствие?
И тут я набрел на идею, которая показалась мне великолепной. Сам я не смогу жениться на Тане, но есть ведь замечательный человек Валера Скобьев, мой одноклассник, друг детства и юности, золотой, добрейший человек, с которым, правда, мы давно уже не виделись. На исходе зимы этого года я встретил его, но в троллейбусе, в толчее, не успели даже толком поговорить. Я вообще не люблю говорить со знакомыми при посторонних и всегда удивляюсь тем, кто нестеснительно обсуждает свои проблемы в полный голос, не обращая внимания на окружающих. Валера выглядел не очень хорошо, но был лучезарен — и пригласил меня на новоселье. Там, дескать, и поговорим. Квартирка маленькая, но много ли одному надо! — сказал Валера, и из этих слов я понял, что он развелся с женой. Наверняка она виновата, потому что кто еще муж, кто семьянин, если не Валера? Вот для Ларисы подходящая пара!
На новоселье я так и не собрался, но адрес, номер дома и квартиры запомнил, имея хорошую память на числа.
Не откладывая, с утра пораньше я отправился на трамвай номер десять, что проходит в нескольких кварталах от моего дома, и через несколько остановок оказался в районе, называемом Агафоновкой, это большой поселок, поднимающийся в гору, — деревянные частные дома. Но вырос здесь и микрорайон из нескольких девятиэтажных домов, среди которых я без труда нашел дом Валеры и поднялся на восьмой этаж. Увидел металлическую дверь, глухую, с единственным отверстием для хитроумного ключа и глазком. Что ли, забогател Валера? — подумалось мне.
Позвонил.
Сквозь глазок видно было, как в прихожей зажегся свет. Потом глазок затемнился: меня рассматривали.
— Кого надо? — послышался нарочито мужественный голос.
— Мне бы Валерия Скобьева, — приветливо ответил я.
— Он тут не живет.
— Он переехал? А не будете ли столь любезны сказать его новый адрес?
Дверь открылась. Довольно тощий и невеликий ростом мужчина лет тридцати с совершенно непонятной злостью сказал:
— Я сейчас буду столь любезен тебя с лестницы спустить.
— Не вижу причины, — удивился я. — Валера мой одноклассник. Почему бы вам не сказать мне его адрес? Мне нужно увидеться с ним.
— Тебе нужно, ты и ищи, — сказал злой мужчина и вознамерился прекратить общение.
— Послушайте! — сказал я. — Я не первый раз слышу эту фразу. «Вам нужно, вы и действуйте!» Это, смею вам заметить, глубоко грубая и даже бесчеловечная фраза. Бесчеловечно в ней то, что она, во-первых, оскорбляет и того, кто ее произносит, и того, кому она адресована. Во-вторых, получив такое напутствие, человек приходит в состояние раздражения — не я лично в данный момент, а кто-то, допустим, теоретический. Ему захочется выместить — и, часто не имея возможности выместить на том, кто проигнорировал его нужды, он вымещает на другом. Но круговорот отношений таков, что когда-то и вы окажетесь в ситуации, когда человек, обиженный не вами, а кем-то другим, подобным вам, на вашу просьбу скажет: это ваши проблемы, вам нужно, вы и действуйте!
Злой тощий мужчина, держась рукой за дверь в готовности захлопнуть ее, медлил — видимо, поневоле заинтересовавшись. Он выслушал меня и сказал:
— А со мной только так и поступают. Я свои проблемы сам решаю. В том числе с Валерой твоим. Он тебе может рассказать. Только учти, все на законных основаниях.
— Что именно?
— Он расскажет, если еще не загнулся.
И мужчина назвал мне новый адрес Валеры.
Адрес звучал странно: улица Бахметьевская, дом такой-то, во дворе.
Как понимать — во дворе?
Объяснений спрашивать не у кого: дверь захлопнулась.
Что ж, время имелось, — и я поехал на Бахметьевскую, благо, на том же десятом трамвае до Крытого рынка, а там пешком — рукой подать.
Войдя в указанный двор, я стал озираться.
— Кого ищем? — неласково спросила старуха, выбивавшая половик на деревянной веранде второго этажа, блестевшей в свете утреннего солнца остатками стекол в решетчатых рамах.
— Мне Валерия Скобьева.
— Таких нет.
— Мне сказали, он тут во дворе живет. Я не понял, как — во дворе?
— Валерка, что ли, безногий? Вон он, в сарае, если не по улицам шкандыбает. А если дома, то пьяный спит.
Она указала на деревянный сарай, такой же, как и прочие соседние сараи — покосившиеся, ветхие, щелястые.
Дверь была приоткрыта. Я вошел. Глаза попривыкли к сумраку — и я увидел в углу кучу тряпья. Подошел, приподнял нечто вроде рогожи — и увидел спящего, свернувшегося в калачик, человека, ужасающе какого-то короткого — и я сразу не мог понять причины этого впечатления, хоть и помнил слова старухи. Что слова! — мне самому надо было убедиться, что человек этот — Валера Скобьев и что он — без ног.
Но, вглядевшись, я увидел, что у него только одна нога лишена своей половины, а вторая просто зарыта в тряпье, но, кажется, цела.
Валера во сне начал бессознательно шарить рукой, отыскивая рогожу. Проснулся. Резко сел, уставился на меня.
— Чего? Кто? Зачем?
— Здравствуй, Валера…
— Антон? Каялов? Антоша?
И заплакал.
И вот его история, которую он рассказал сбивчиво, нервно и перескакивая с одного на другое, а я изложу коротко и сухо — и по порядку.
Закончив школу отлично, хоть и без блеска — как-то скромно-отлично, он удивил всех, он пошел работать сразу же на завод слесарем-сборщиком, на тот завод, где работал его отец. Потом армия, а после армии он серьезно и основательно завел семью. Жизнь испытывала его на прочность. Ни начальство, ни товарищи не любили его — за трезвость, трудолюбие, за то, что он, находясь в условиях социалистического производства, понимал эти условия слишком буквально и очень досаждал словами правды на всяческих собраниях, а потом и заходя в кабинеты, став цеховым профоргом — и при этом относясь к своей традиционно юмористической должности с таким вниканием в нее, что все только руками разводили. Профсоюзными делами ведь, то есть распределением льготных путевок и новогодних подарков детям, занимался на всяком предприятии освобожденный от других трудов профком, от профоргов же требовалось только собирать взносы и оформлять агитационные стенды «Позор прогульщикам!» и «Мы равняемся на них!» Но Валера профсоюз понимал как средство защиты интересов рабочих на вверенном ему участке — и сильно этим раздражал руководство. В качестве самой доходчивой урезонивающей меры ему задерживали очередь на квартиру, хотя он и в Коммунистическую Партию Советского Союза вступил по рабочей сетке, как тогда выражались, позволяющей содержать в партии необходимое пролетарское большинство; его заявление рассмотрели охотно: надо ведь было кого-то принимать, — и зазывали пролетариев, и уговаривали, но все отказывались, ибо на излете социализма перестали уже стесняться чего бы то ни было и откровенно, по-рабочему, с матерной прямотой высказывали свое отношение к партийным и государственным органам и мероприятиям — да еще взносы партийные плати, которые чуть ли не больше подоходного налога! Нет уж, пошли вы все туда-то и туда-то!.. А тут человек сам в руки лезет!.. Но они к членству в партии отнесся слишком серьезно и сознательно и слова «я — коммунист» произносил так, что другим неловко становилось. То есть он вступил в партию не ради квартиры или повышения в должности, а принципиально, и это позволяло администрации не церемониться с ним, зная, что он не будет куда-то писать, жаловаться, кляузничать: считал эти действия несовместимыми с именем коммуниста.