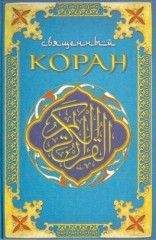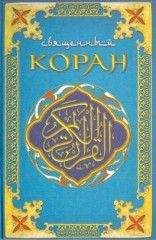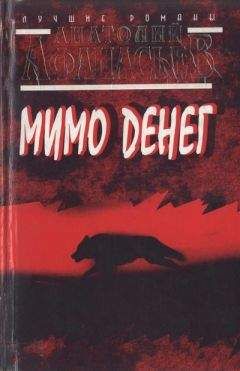Джонатан Коу - Какое надувательство!
— Ну-у… — Казалось, Фиби сомневается. — Вы же сами сказали, что хотели взглянуть на мои работы. Вы ведь за этим приехали, правда?
— Я думал, все они есть на слайдах.
— Не все. — Фиби просияла. — А можно и прямо сейчас посмотреть, если хотите. Займет от силы час-другой.
Это, конечно, последнее, чего ему хотелось.
— Думаю все же, что поместится. Придется немного передние спинки наклонить.
— Спасибо, — сверкнула улыбкой Фиби. — Сейчас сумку принесу.
Из гостиной, шаркая ногами, возник Дэррен.
— Где мой чай?
— Я думала, ты в „Сэйнзбери“ собираешься, — сказала Ким, накладывая ему сахар.
— Так только в шесть закрывается.
— Да, но к тому времени там уже ничего не останется.
— Сейчас регби начнется.
— Дэррен, что твоя штанга делает у меня в комнате? — Фиби уже стояла в прихожей с вещами.
— Там больше места. А что, мешает?
— Еще как, черт возьми, мешает. Когда я вернусь, чтоб ее там не было, договорились?
— Ну ладно, раз ты так переживаешь.
— Что ж, спасибо за чай, — произнес Родди, не отпивший ни глотка. — Нам, наверное, пора.
— Хороший пидж, — заметил Дэррен, когда Родди протискивался мимо него из кухни, — Типа, из „Некста“, наверное, да?
Обсуждаемый пиджак — из кремового полотна, спортивного покроя — шился на заказ и стоил больше пятисот фунтов.
— От „Чарльза“, на Джермин-стрит, — ответил Родди.
— Фига себе. Я так и думал. Откуда-то оттуда.
Фиби послала ему презрительный воздушный поцелуй и сказала:
— Пока, Ким. Я позвоню, когда буду возвращаться.
— Ладно, давай смотри там. Приятно провести время — и не делай ничего… ничего, о чем потом придется жалеть.
Родди, к счастью, этого уже не слышал.
* * *
— Этот парень — идиот, — сказала Фиби, когда они ехали по трассе А1 к Тирску. — А из квартиры его сейчас никак не выкуришь. Меня он уже начинает угнетать.
— Ваша соседка, мне кажется, очень приятная.
— Правда, ужасно расстраивает, когда друзья выбирают себе совершенно неподходящих партнеров?
Родди подбавил газу так, что до передней машины осталось футов десять, и нетерпеливо помигал фарами. Пока в среднем удавалось держать девяносто пять миль в час.
— Я вас отлично понимаю, — сказал он. — Вот, к примеру, есть у меня один приятель. Два года уже помолвлен с одной женщиной — кузиной герцогини _____________________, кстати. Выглядит она не очень, но потрясающие связи. А ему хотелось заняться оперой, видите ли. И вот ни с того ни с сего он без всякого предупреждения разрывает помолвку и закручивает какое-то дельце с совершенно посторонней дамочкой — учительницей начальных классов, если угодно. Никто — просто никто о ней никогда не слыхал. Как вдруг бац! — они женятся. И подумать только — очень счастливы. Хотя мне по-прежнему кажется, что ему стоило закусить губу и остаться с Мариэллой. Теперь мог бы управлять Английской национальной оперой. Понимаете, о чем я?
— Мне кажется, мы о несколько разных вещах говорим, — ответила Фиби.
Несколько минут они молчали.
— А мне кажется, примерно об одном и том же, — вымолвил Родди.
* * *
Близилось к шести, когда они проехали через Хелмсли и свернули к торфяникам Северного Йорка. Солнце еще висело высоко, и Фиби обнаружила, что сами торфяники, которые она видела множество раз и считала до невероятия унылыми, сегодня кажутся радостными и приветливыми.
— Вам так повезло, — сказала она, — что у вас здесь дом. Наверное, в детстве тут было чудесно.
— О, я мало времени проводил здесь ребенком. Слава богу. Самое мрачное место на земле, если хотите знать мое мнение. Я и сейчас сюда не езжу, если без этого можно обойтись.
— А в доме сейчас кто живет?
— Вообще-то никто. Там есть какая-то минимальная обслуга — пара кухарок и садовников, да еще этот старый дворецкий, который у нашего семейства уже лет пятьсот. Вот, пожалуй, и все. Поэтому там довольно пустынно. — Родди вытащил очередную сигарету и протянул Фиби, чтобы зажгла. — О, ну, кроме моего отца, разумеется.
— Я не думала, что он еще жив.
Родди улыбнулся.
— Ну, насколько об этом можно судить.
Толком не понимая, как ей реагировать, Фиби сказала:
— А вы помните портрет отца Джона Беллани?[66] Люблю эту картину — такая глубокая, подробная. Так много рассказывает о самом человеке и в то же время выписана с такой теплотой и нежностью. Вся просто светится.
— Да, я знаю эту работу. Хотя не уверен, что мог бы сейчас порекомендовать кому-то вкладывать в нее капитал. Послушайте. — Родди взглянул на Фиби как бы с юмором, но вместе с тем предостерегающе. — Надеюсь, вы не станете весь уик-энд разговаривать о живописи? Мне этого и в Лондоне хватает.
— Так о чем же нам еще говорить?
— О чем угодно.
— „Я живу и дышу искусством, — произнесла Фиби. — То, что другие считают „реальным миром“, мне всегда казалось, напротив, бледным и чахлым“.
— Очень может быть. Лично мне такое отношение представляется довольно экзальтированным.
— Да, но это не я сказала: это вы сами. Журнал „Обсервер“, апрель тысяча девятьсот восемьдесят седьмого.
— А. Ну да. В моей сфере деятельности именно это и следует говорить журналистам. Воспринимать такое нужно с определенной поправкой. — Он по-прежнему затягивался сигаретой, но в голос прокрались раздраженные опасные нотки. — Знаете, что я планировал на сегодняшний вечер? Меня пригласили на ужин с маркизом___________к нему домой в Найтсбридж. Среди гостей должны быть один из самых влиятельных театральных продюсеров Лондона, член королевской семьи и невероятно красивая американская актриса, сыгравшая главную роль в фильме, который сейчас идет по всей стране, — она специально прилетела на этот ужин из Голливуда.
— И что я должна вам на это ответить? Видимо, вам с этими людьми очень скучно, раз вы предпочитаете проводить время со мной у черта на куличках.
— Не обязательно. Я рассматриваю это как рабочий уик-энд. В конце концов, мое существование зависит от воспитания талантливой молодежи. А вас я считаю талантливой. — Комплимент, по его мнению, был тонко просчитан, и он, расхрабрившись, добавил: — Я хочу сказать, дорогая моя, что от этого уик-энда я ожидаю чего-то большего, нежели нескольких часов в гостиной за обсуждением влияния Веласкеса на Фрэнсиса Бэкона. — И не успела Фиби рта раскрыть, как Родди углядел что-то на горизонте: — А вот и приехали. Дом родной.
* * *
Первое впечатление Фиби от Уиншоу-Тауэрс оставляло желать лучшего. Вознесясь на гребень огромного и по виду неприступного хребта, поместье отбрасывало глубокие черные тени на земли внизу. Садов видно не было, но разглядеть какую-то чащу уже удалось — она скрывала все подходы к дому, а у подножия холма лежал большой, унылый и невыразительный водоем. Что же до безумной толчеи готических, неоготических, недоготических и псевдоготических башенок, подаривших поместью название, то больше всего они напоминали гигантскую черную руку, кривую и корявую: пальцами она тянулась к небесам, будто тщась их разодрать, чтобы сковырнуть оттуда заходящее солнце, горевшее начищенной монетой, — казалось, еще немного, и светило уступит хватке этой лапы.
— Не очень похоже на воскресный лагерь, а? — произнес Родди.
— А других зданий здесь нет?
— Есть деревушка милях в пяти, с другой стороны холма. Вот, пожалуй, и все.
— Зачем кому-то понадобилось селиться в таком заброшенном месте?
— Бог знает. Говорят, главный корпус построили в тысяча шестьсот двадцать пятом году. Мое семейство завладело им только лет через пятьдесят. Поместье купил один из моих предков, Александр, из каких-то своих соображений, а потом начал достраивать. Потому от первоначальной кладки мало что сохранилось. Теперь вот этот якобы утиный пруд, — Родди ткнул в окно, ибо дорога шла параллельно урезу воды, — известен под именем „ледниковое озеро Кавендиш“. Никакое оно, конечно, не ледниковое, потому что его выкопали. А Кавендиш Уиншоу был моим двоюродным прадедом, он-то и приказал его вырыть и наполнить водой лет сто двадцать назад. Наверное, хотелось ему проводить долгие счастливые часы, катаясь на лодке и вылавливая форель. И вот теперь — только посмотрите на него. Да тут на берегу пять минут постоишь и уже можно от пневмонии умереть. Я всегда подозревал, что Кавендиш — да и сам Александр, если вдуматься, — должно быть, принадлежали к… в общем, к эксцентричной ветви семейства.
— А что это означает?
— О, вы разве не слышали? У семейства Уиншоу — долгая и почетная история душевных заболеваний. Длится и поныне.
— Поразительно, — сказала Фиби. — Обо всех вас книгу бы написать.