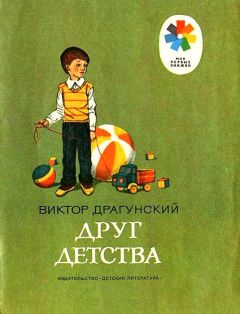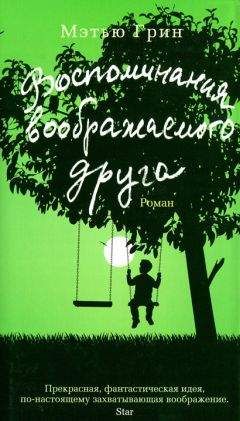Максим Кантор - Учебник рисования
И вдруг тревога, оставленная Алиной в прихожей, передалась Инночке. Инночка ссутулилась, блеск исчез из ее глаз, она побежала на кухню — к телефону. Но Струев на звонок не ответил.
40
Дайте мне грязь, я напишу ею солнце, говорил Курбе.
Он имел в виду следующее. Никакой цвет не существует в отдельности, но все цвета становятся собой в зависимости от окружения. Умозрительно мы знаем, что существует красный цвет, мы знаем, что этому цвету присуще определенное эмоциональное содержание, мы отчетливо представляем, как этот цвет выглядит. Однако если поместить тот цвет, который мы своим знанием определили как красный, в окружение еще более ярких цветов, например алого, оранжевого и т. п., то красный цвет сделается более темным — при взгляде на картину мы скорее переадресуем те свойства, какими наделяли красный цвет, — к алому, а сам красный сочтем более темным цветом; мы даже можем принять его за коричневый. В зависимости от соседства меняется характеристика цвета. Также изменение освещения, то есть придание цвету тональной характеристики, может изменить наше представление о нем. Очевидно, что в темноте красный цвет продолжает оставаться красным, предмет, окрашенный в этот цвет, своих свойств не поменял, — но выглядеть красным он уже не будет, скорее — черным. Также и расстояние, то есть помещение между нашим глазом и предметом красного цвета определенного количества воздуха, меняет наше восприятие. Воздух имеет некий не вполне явный цвет (допустим, голубой), который, накладываясь на цвет обозреваемого нами предмета, меняет его. Чем дальше от нас искомый предмет, тем более цвет его подвержен перемене. Комбинация этих обстоятельств (соседство, освещение, расстояние) делают цветовую характеристику понятием относительным. Собственно говоря, это и лежит в основе правил валерной живописи, то есть изображения цвета в зависимости от обстоятельств его бытия.
Голландские мастера (в особенности мастера темных интерьеров) дали нам разительные примеры такой живописи. Искомый красный цвет на их полотнах мы можем опознать как таковой не сразу: он явится нам тускло-кирпичным, глухим лиловым или темно-бурым — в полумраке низкой комнаты в северной стране, под неярким небом.
В изолированном виде цвет существует лишь в нашем воображении — и на иконах. Иконописцы изображали цвета как символы, вне зависимости от их реального бытия в природе. На иконах нет ни расстояния, ни атмосферы, а соседство не бывает случайным; в обратной перспективе созданы идеальные условия для сохранения цвета как символа. Однако, подобно тому как Сын человеческий должен был разделить с людьми земную жизнь и земную смерть, так и цвет, перейдя из иконы в светскую живопись, должен был пожертвовать своей определенностью. В новом времени сохранить себя в чистом виде никакому цвету не удалось — он перемешался со многими цветами и растворился в прямой перспективе.
И оттого, что, мимикрируя к обстоятельствам, цвет меняет свои характеристики, можно подумать, что абсолютного значения цвета более не существует. Однако это не так. Едва наш глаз идентифицирует тускло- кирпичный или бурый цвет как красный (просто такой красный, который претерпел изменения в связи со средой обитания), как в нашем сознании возникают все те характеристики красного, которые присущи цвету как символу. Цвет борьбы и страсти, созидания и непримиримости, он проявит себя, даже если ему пришлось предстать перед нами в виде тусклого, бледного, невнятного.
Если нет голубой краски, я беру красную, говорил Пикассо. Он имел в виду то, что художник выше обстоятельств. И вслед за ним позволено сказать: если нет красной краски — я беру любую. Подлинному колористу безразлично, каким цветом писать. Если значение красного от освещения, соседства или расстояния, или чрезмерно частого употребления (и такое бывает) — утрачено, это не значит, что свойства, которыми наделен был красный цвет, утрачены вместе с ним. Красный цвет может вовсе исчезнуть в природе, но символ красного сохранится. Роль красного будет играть другой цвет, вот и все. Задача живописца — как и полководца на поле боя — понять, какие силы требуется использовать сейчас. При правильном использовании всякий инструмент становится оружием.
Глава сороковая
ВОЙ РУССКОЙ ИНТЕЛЛИГЕНЦИИ
Оранжевый абажур под потолком кухни, кремовые шторы на темных окнах, фаянсовые чашки, расписанные голубыми цветами: на кухне Кузиных было тесно и уютно, как и принято у русских интеллигентов советской формации. Впрочем, отчего же именно советской формации, разве сто лет назад было иначе? Так повелось в России давно: власть занимается душегубством и коварствами, народ терпит и пьянствует, а интеллигенция, совесть страны, собирается за круглым столом под мягким светом абажура, пьет чай и размышляет. Каждому сословию пристал свой уклад жизни: сатрапы и чиновники, те любят мебель карельской березы и особняки в сосновом бору; дебоширы-слесари, те предпочитают загаженные хрущобы с полированными сервантами и гардинами с бахромой; а люди интеллектуальные склонны окружать себя стеллажами книг, покойными креслами, уютными диванчиками, неяркими лампами. Так должен быть устроен быт, чтобы ничто не отвлекало, чтобы можно было присесть или прилечь с книгой, задуматься о главном, отхлебнуть неторопливо ароматного чайку, проследить, как дрейфует ломтик лимона от края до края синей фаянсовой чашки. Такого рода уединение не означает бегства от реальности — но напротив: именно уединившись, сконцентрировавшись на кардинальных вопросах, и может интеллигент принести обществу пользу. Случаются подчас в жизни людей умственных такие оказии, что приходится им забыть свой размеренный быт и отдаться ритмам иной, им не присущей деятельности. Но, если случается такое, интеллигент тоскует, понимает, что напрасно променял абажур и стеллаж с книгами на коридоры власти и трибуны ораторов, — и тянет его обратно, в проверенный, ему принадлежащий по праву происхождения мир. Так тоскует и дебошир-слесарь по своему полированному серванту, если невзначай попадает в интерьер с карельской березой — его манит его пошлое убогое бытие, нарочно для него, слесаря, придуманное. Уж коли предназначено тебе хлебать поганую водку и смотреть по телевизору футбол — не стоит искать иного счастья, отдайся радостям, для тебя специально придуманным. И тем более опрометчиво искать иного счастья интеллигенту, быт которого разумно организован.
Шипели блины на сковороде, булькал синий чайник, привезенный из Парижа, и Ирина Кузина, оглядывая свое хозяйство, говорила так:
— И не надо ничего больше. Зачем нам? Хоромы ни к чему, гарнитуры красного дерева не требуются. Кузин, он же бессребреник. Интеллигент. Простак. Его просят: приезжайте, Борис Кириллович, прочтите лекцию — он и едет. Хоть на другой конец Москвы, хоть в Берлин. Для него главное — учительствовать. И ведь никогда заранее не спросит, оплатят ему проезд или нет. Разве так денег накопишь? И не надо нам денег.
А Борис Кириллович Кузин, уткнув бороду в грудь, бурчал под нос:
— Пусть уж государственники или славянофилы получают большие оклады, мы как-нибудь обойдемся.
— Лишь бы на книги хватало, — сказала Ирина Кузина.
— Пусть уж государственники и славянофилы ходят по ресторанам, — продолжал Борис Кузин, — пусть они по курортам ездят, если им так хочется. А для нас — чашка чая на кухне, и довольно. Не привыкли русские интеллигенты по ресторанам ходить.
Ирина Кузина переворачивала блины, разливала чай по синим фаянсовым чашкам и говорила:
— Деликатесов нет, и прекрасно без них обходимся. Я лично не променяю свой дом ни на какие государственные дачи. Пусть они живут, как хотят, — а мы уж как-нибудь устроимся.
IIБорис Кириллович старался заглушить в себе память о том периоде жизни (по счастью, недолгом периоде), когда он едва не возглавил политическое движение, когда судьба неожиданно толкнула его в интриги государственного масштаба. Его роль в подготовке государственного переворота, роль идеолога так называемой Партии прорыва, вполне могла принести ему посты и деньги — но могла принести неволю и горе. Исход, разумеется, был гадателен — будь Борис Кириллович человеком азартным, он, пожалуй, мог рискнуть. Так люди, подвластные гибельной страсти к игре, кидаются в разного рода авантюры — и подчас выигрывают. Глядя на такого счастливчика, усталый отец семейства, обремененный детьми, службой, ежедневной рутиной, говорит себе в сердце своем: и я бы мог! Ну, отчего я не пошел в казино, не поставил последнее на зеро? Однако осторожный внутренний голос, верный друг всякого отца семейства, подсказывает ему: сиди тихонько и не ищи приключений. Пропадешь, дурачок, ни за грош пропадешь. Кузин радовался тому, что врожденная осторожность заставила его немного помедлить, уклониться от событий. И подумать страшно о том, что случилось бы, отдайся он интриге в полной мере. Сегодня, оглядывая свою тесную, но такую уютную кухню, Кузин в который раз благодарил свое чутье: еще немного, и кухни своей он бы не увидел никогда.