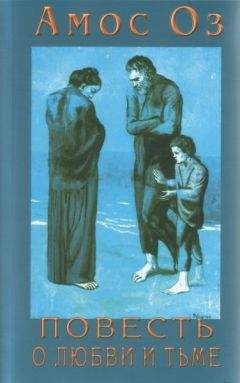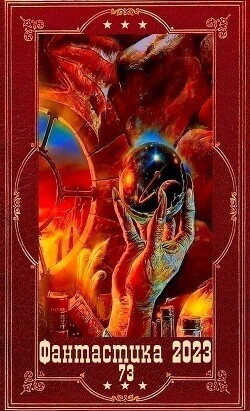Повесть о любви и тьме - Оз Амос
А вот и мой юный отец, очень похожий здесь на моего сына Даниэля (носящего также имя Иехуда Арье – в память о моем отце). Это сходство вызывает прямо-таки озноб. Моему папе здесь семнадцать, он худой и длинный, словно стебель кукурузы, украшенный галстуком-бабочкой, его наивные глаза глядят на меня сквозь очки в круглой оправе, черные волосы тщательно зачесаны назад. Он слегка смущен, но и немного горд (он великий мастер произносить речи, но – и в этом нет противоречия – ужасно застенчив). По лицу его разлит этакий веселый оптимизм: ну право же, ребята, не беспокойтесь, все будет в порядке, мы все превозможем, все как-то устроится, да и что вообще может случиться, не страшно, все будет хорошо.
Отец на этой фотографии моложе моего сына. Если бы только это было возможно, я влез бы в фотографию, предупредил бы и его самого, и его развеселых товарищей. Я бы попытался рассказать им, что их ждет. Скорее всего, они бы не поверили и презрительно улыбнулись в ответ.
А вот здесь снова отец. Разодет, словно собрался на праздничный бал. А вот он в лодке, гребет, а с ним две девушки, улыбающиеся ему с шутливым кокетством. А вот он в забавных штанах, называемых “никербокер”, из-под которых видны носки. Он напряженно подался вперед, обнимая за плечи улыбающуюся девушку, волосы которой разделены прямым пробором точно посередине головы. Девушка собирается опустить в почтовый ящик какое-то письмо, на котором написано – снимок вполне четкий – Skrzynka Pocztowa. Кому адресовано ее письмо? Что произошло с адресатом? Что выпало на долю второй девушки, запечатленной на снимке, прелестной девушки в полосатом платье, с маленькой прямоугольной сумкой под мышкой, в белых носочках и белых туфельках? Как долго еще после того, как был сделан снимок, сохраняла она свою улыбку, эта красавица?
Опять мой отец. Улыбающийся, немного напоминающий ту очаровательную девочку, которую мать пыталась вылепить из него в детстве. Он на прогулке в лесу с пятью девушками и тремя парнями. И хотя они в лесу, но разодеты в свои лучшие “городские” костюмы. Правда, парни сбросили пиджаки, оставшись в белых рубашках и галстуках. Стоят они раскованно, чуть вызывающе – это вызов судьбе или вызов девушкам? А вот они строят небольшую гимнастическую пирамиду: два парня держат на своих плечах девушку-толстушку, а третий парень поддерживает ее за бедра движением почти дерзким. Остальные девушки хохочут. И весь мир улыбается – и ясное небо, и перила переброшенного через речушку мостика. Только лес вокруг не смеется – густой, серьезный, темный, раскинулся этот лес во всю ширину и глубину фотоснимка, уходя далеко за его пределы. Лес под Вильной… Лес Рудники? Лес Понары? А возможно, это Попишок или Олькеники, те самые леса, через которые дед моего отца Иехуда Лейб Клаузнер любил некогда проезжать темными ночами на телеге, вполне полагаясь на свою лошадь, на силу свою да на свое везение. Ничего он не боялся даже в глубине этого густого мрака, даже в метельные зимние ночи.
Душа моего дедушки принадлежала Эрец-Исраэль, его душа устремлялась в Галилею, северные долины, в Шарон, Гилад, Гильбоа, в горы Самарии и к скалам Эдома, туда, где “Иордан все дальше течет, вздымая волны”, как пелось в песне, любимой палестинофилами, “приверженцами Сиона”. Дедушка вносил свой “сионистский шекель” в Еврейский национальный фонд, занимавшийся приобретением и освоением земли в Эрец-Исраэль, с жадностью проглатывал каждую, даже самую незначительную весточку из Палестины, пьянел от восторга, слушая речи Жаботинского, который время от времени, бывая в Вильне проездом, встречался с тамошними евреями и увлекал за собою их сердца.
В то же время, хотя земля Вильны все сильнее горела у них под ногами, он все еще был склонен (а быть может, бабушка Шломит склоняла его) отыскать такую новую страну, чтобы была она не столь азиатской, как Палестина, и чуть более европейской, чем Вильна, все глубже и глубже погружавшаяся во тьму. В 1930—32 годах Клаузнеры подавали документы на эмиграцию во Францию, в Швейцарию, в Америку (несмотря на индейцев), в одну из скандинавских стран, в Англию. Ни одна из этих стран не захотела их: в каждую и в самом деле в те годы устремилось слишком много евреев.
Даже за полтора года до прихода нацистов к власти в Германии мой дедушка-сионист был настолько слеп, что в полном отчаянии от разгула антисемитизма в Вильне попытался стать гражданином Германии. К нашему счастью, немцы тоже отказались принять его.
На всех пространствах Европы очень многие в те годы стремились раз и навсегда избавиться от этих людей, столь лихорадочно влюбленных в Европу, в совершенстве владеющих ее языками, декламирующих ее поэтов, истово верящих в ее моральное величие, ценителей ее балета и оперы, приверженцев ее духовного наследия, мечтающих о ее единстве в постнациональную эпоху, восторженных поклонников ее манер, одежды, моды. От этих людей, сделавших все, чтобы внести и свой вклад в любую область, любым способом вписаться, быть принятыми, побороть ее холодную враждебность пылкими ухаживаниями, добиться ее симпатии, укорениться, стать любимыми…
В 1933 году поднимаются, стало быть, Шломит и Александр Клаузнер, разочарованные приверженцы столь любимой Европы, поднимаются они и младший их сын Иехуда Арье, который только что завершил университетский курс, получив степень бакалавра в области польской и мировой литературы, и эмигрируют скрепя сердце, почти поневоле, в эту азиатскую Азию, в Иерусалим, о котором тосковал дедушка в своих проникновенных и взволнованных стихах со времен своего отрочества.
На корабле “Италия” они отплывают из Триеста в Хайфу, фотографируются в пути с капитаном, чье имя, как написано на полях фотоснимка, – Бениамино Умберто Штайндлер. Не более и не менее.
В хайфском порту, по семейному преданию, поджидает их врач в белом халате (а может, это был санитар?), представляющий британскую администрацию, который при помощи пульверизатора обрабатывал дезинфицирующей смесью одежду каждого прибывшего в Эрец-Исраэль. Когда подошла очередь дедушки Александра, он вскипел, выхватил из рук доктора пульверизатор и опрыскал двойной дозой его самого: так, дескать, будет с каждым, кто осмелится поступать с нами на нашей земле так, словно мы все еще на чужбине. Две тысячи лет мы все сносили молча. Две тысячи лет мы шли как овцы на убой. Но здесь, на нашей земле, мы не дадим превратить ее в новую чужбину. Никому не позволим попирать нашу честь.
Старший брат моего отца, Давид, остался в Вильне. Еще будучи совсем молодым человеком, он стал доцентом в университете. У него перед глазами наверняка стояла блестящая карьера дяди Иосефа (так же, как это было и с моим отцом в течение всей его жизни). Там, в Вильне, мой дядя Давид женился, и там в 1938 году родился у него сын Даниэль, которого я никогда не видел – ни одной фотографии мне так нигде и не удалось отыскать. Остались лишь почтовые открытки да несколько писем, написанных по-польски тетей Малкой, женой Давида.
10.2.39.
Первая ночь, когда Дануш проспал с девяти вечера до шести утра. Вообще у него нет проблем с ночным сном. Днем он лежит, глаза его открыты, ручки и ножки в постоянном движении. Иногда он еще и кричит…
Менее трех лет проживет маленький Даниэль Клаузнер. Еще немного, и придут, и убьют его, чтобы уберечь от него Европу, чтобы предотвратить “кошмарный сон совращения сотен и тысяч девушек отвратительными кривоногими еврейскими выродками…” “С сатанинской радостью на лице черноволосый еврейский парень подстерегает девушку, которую он осквернит своей кровью…”; “Конечная цель евреев – отчуждение всего сугубо национального… посредством превращения других народов и наций в ублюдочных выродков, снижение расового уровня самых возвышенных народов и наций… с потаенной целью разрушить белую расу…”; “Если переместят пять тысяч евреев в Швецию, то в течение короткого времени они захватят все ключевые позиции…”; “Всемирный отравитель всех рас – мировое еврейство…”